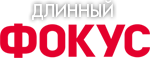«Очень грустно, всё очень грустно: живём всю жизнь как идиоты и в конце концов умираем»
Подвал
Война — лучшее время для подвалов. В них прячутся от бомбёжек и раздают помощь переселенцам. Как комната в «Сталкере», они дают то, что сейчас больше всего нужно: одним продукты и целые ботинки, другим — избавление от чувства вины

Оксана Савченко
Журналист
У армянки Розы на руке след от ожога, напоминающий цветок. След, оставленный родиной. Родина Розы — Нагорный Карабах. Ей было пять, когда она изучала царапины на стене подвала, в котором пряталась с семьёй от бомбёжки. Царапины складывались в контур средневекового рыцаря. Роза на него рассчитывала: думала, когда станет совсем страшно, рыцарь сойдёт со стены и всех спасёт. Однажды бомбили совсем рядом. От страха Роза кричала так, что слышала её глухая бабушка. Почему-то кричала «мама», хотя мама была рядом. Крик пятилетнего человека резонировал со взрывами снарядов. Роза от страха положила руку туда, куда было нельзя, — на раскалённую буржуйку. Её последние воспоминания о родине — папа подсаживает её и маму в вертолёт. Дальше — степное поле, от которого быстро-быстро Роза улетает в небо. Она так и говорит «в небо», когда рассказывает мне эту историю. Роза выросла и стала украинским режиссёром. Языком театра можно рассказать о потерянной родине и о том подвале, который оставил след в прямом и переносном смысле.
Примерно в эти же годы — начале 1990-х — в одном из подвалов Крещатика я прогуливала школу и училась курить. Получалось плохо, я давилась дымом и не понимала, как правильно затягиваться. Тогда один из друзей посоветовал, втягивая дым, произнести слово «мама». У меня получилось. Уходя, на стене мы нацарапали «Виктор Цой жив». Думаю, эта надпись и сейчас там. У человека есть потребность оставлять следы. Даже в подвале, в котором их никто не увидит. Точно так же, как упоминать к месту и не к месту маму.
Примерно в эти же годы — начале 1990-х — в одном из подвалов Крещатика я прогуливала школу и училась курить. Получалось плохо, я давилась дымом и не понимала, как правильно затягиваться. Тогда один из друзей посоветовал, втягивая дым, произнести слово «мама». У меня получилось. Уходя, на стене мы нацарапали «Виктор Цой жив». Думаю, эта надпись и сейчас там. У человека есть потребность оставлять следы. Даже в подвале, в котором их никто не увидит. Точно так же, как упоминать к месту и не к месту маму.

Чарльз Буковски
Американский литератор, поэт, прозаик и журналист
Под монастырь
Наше время. Зима. Суббота. Полдень. У меня температура и редакционное задание. Через полчаса я должна быть в одном из православных храмов. В нём пару раз в месяц выдают продукты переселенцам с востока. Для того чтобы получить паёк, надо зарегистрироваться по телефону, взять с собой копию паспорта, свидетельство о рождении ребёнка (если есть), прийти на территорию церкви и стать в очередь. Заведует всем Инна (имя я изменила). В миру она работает в какой-то западной фирме, в свободное время занимается благотворительностью.
Я иду в подвал, где раздают помощь беженцам. На одном из киевских постеров вижу хулиганскую надпись поверх рекламы: «Мути добро и беги». Она выведена красным цветом криво и неумело, но врезается в память. Никогда бы не подумала, что эта формула может кому-нибудь пригодиться. Оказалось — может. Например, мне.
Уныло подхожу к церковной ограде и чертыхаюсь про себя. Прохожие сливаются с собственными серыми тенями, а лысые деревья кажутся узловатыми радикулитными пальцами, которые тянутся к свинцовому небу. Недалеко Днепр, я чувствую его предгрозовой запах. Глубоко вдыхаю — шибает в нос тёплой вонью немытого тела.
— Дайте, пожалуйста, денег, — передо мной стоит «небомжеватого» вида мужчина с палочкой.
Простота просьбы вызывает желание помочь. И тут же он всё портит шаблонным:
— Сам я не местный…
Сую десятку и быстро иду по мощёной дорожке. Спиной чувствую презрительный взгляд «неместного человека» — не выслушала его историю.
— Дайте, пожалуйста, денег, — передо мной стоит «небомжеватого» вида мужчина с палочкой.
Простота просьбы вызывает желание помочь. И тут же он всё портит шаблонным:
— Сам я не местный…
Сую десятку и быстро иду по мощёной дорожке. Спиной чувствую презрительный взгляд «неместного человека» — не выслушала его историю.
Пункт выдачи продуктов находится в одной из храмовых пристроек. Фасад из красного кирпича. Это красиво. Хотя такой дом у меня ассоциируется с мрачноватыми историями Диккенса о чахлых детях, которые с утра до ночи горбатятся на фабрике. Впрочем, вокруг растут ели, а они деревья добрые — успокаивают, обещают праздник и много подарков.
Вокруг ни души. Ломлюсь в центральный вход. Заперто. Из-за угла появляется женщина с пакетом. Бросаюсь к ней с вопросом, где тут помощь беженцам выдают. Она оценивающе окидывает мои дорогущие, модно подранные итальянские джинсы и выдаёт жалостливое:
— Вещи там не дают. Только продукты.
Плетусь за угол, нахожу казённую дверь. Открываю. Ступеньки в подвал. На них люди. В основном женщины. Некоторые с детьми. Почти у всех наготове ксерокопии документов. Стены бледно-голубого цвета мартовского неба. Стараюсь быстрее проскользнуть мимо понурых лиц — стыдно, когда видишь кого-то, кому хреновее, чем тебе.
— Вещи там не дают. Только продукты.
Плетусь за угол, нахожу казённую дверь. Открываю. Ступеньки в подвал. На них люди. В основном женщины. Некоторые с детьми. Почти у всех наготове ксерокопии документов. Стены бледно-голубого цвета мартовского неба. Стараюсь быстрее проскользнуть мимо понурых лиц — стыдно, когда видишь кого-то, кому хреновее, чем тебе.
«В Украине 770 тыс. беженцев — и это в стране, где около года назад их не было совсем»

Стефан Дюжаррик
Официальный представитель Генсека ООН
Обычный подвал. Серый прямоугольник примерно пять на десять метров. Тянет сыростью. За стойкой-тумбой высокий молодой человек что-то пишет. От худобы его черты заострились, короткая стрижка под Сковороду усиливает сходство с философом. Он в синем спортивном джемпере и лыжных штанах. Выражение лица невозмутимо. Сковорода быстро записывает данные переселенцев — откуда, состав семьи. Затем собирает набор из продуктов. Лишних пакетов нет. И парню приходится каждый раз что-то изобретать. Для многодетного папаши с испитым лицом он складывает масло и крупы в одну из картонных коробок.
Некоторые приходят подготовленными. Похожая на пожухлый осенний лист женщина подставляет большую клетчатую торбу и пытается поймать взгляд Сковороды. В глазах тётки читается та характерная смесь отваги и отчаяния, которую можно наблюдать на лицах матерей-одиночек или многодетных жён алкоголиков. Сковорода, не поднимая головы, что-то отмечает в тетради:
— У вас сколько взрослых?
— Трое. И внучка, ей 18.
— Значит, четверо. Сечку возьмёте?
— Да. А у вас порошка нет?
— Кончился. Распишитесь.
Женщина расписывается, прячет сечку, макароны, подсолнечное масло и банку тушёнки.
Некоторые приходят подготовленными. Похожая на пожухлый осенний лист женщина подставляет большую клетчатую торбу и пытается поймать взгляд Сковороды. В глазах тётки читается та характерная смесь отваги и отчаяния, которую можно наблюдать на лицах матерей-одиночек или многодетных жён алкоголиков. Сковорода, не поднимая головы, что-то отмечает в тетради:
— У вас сколько взрослых?
— Трое. И внучка, ей 18.
— Значит, четверо. Сечку возьмёте?
— Да. А у вас порошка нет?
— Кончился. Распишитесь.
Женщина расписывается, прячет сечку, макароны, подсолнечное масло и банку тушёнки.

Картонные коробки с крупами стоят прямо на полу, там же бутылки с маслом и консервы. Консервов всего банок тридцать, зато пакетов с сечкой много. Натюрморт разнообразят трёхлитровые банки с консервацией. Всё это принесли прихожане — кто чем богат. Буханки украинского хлеба сложены друг на друга и покрыты пятнами плесени. В подвале сыро, и хлеб бесславно погиб, не попав к адресату.
Разглядывая жестяные башенки тушёнки, пытаюсь прикинуть, хватит ли продуктов на всю очередь. Понимаю, что большинству светит только сечка. Жалею, что пришла с пустыми руками.
Появляется аккуратная, похожая на Снегурочку Инна. Знакомимся. Инна рассказывает, что утром приехал мужчина и привёз три тысячи гривен, на которые закупили макароны и тушёнку, сейчас они тоже заканчиваются, а в очереди ещё много людей. Инна замечает разорванную упаковку с вермишелью и расстраивается.
Под прицелом хмурых глаз из очереди она складывает в пакет бутылку подсолнечного масла, сечку и банку тушёнки. Это для старика, которого ей предстоит навестить вечером. Старик приехал в Киев из Луганской области. Поселился на вокзале. Просить не умел, поэтому голодал. Там его полумёртвого нашли волонтёры. Отвезли в больницу. Старику диагностировали рак желудка. Сейчас он живёт на съёмной квартире и почему-то не отвечает по мобильному, который ему тоже купили волонтёры. Инна эту историю выкладывает без эмоций, просто констатируя факты — нашли, привезли, откачали, теперь у него рак, обострение, вероятно, спровоцированное голодом, и депрессия.
Пока мы разговариваем, Сковорода записывает и формирует пайки. Из обрывков фраз узнаю, что ещё утром он и предположить не мог, чем будет заниматься. Просто решил зайти и принести какую-то еду. Помощников в тот день у Инны не было. Вот она и попросила его остаться. Я предлагаю помощь. Инна быстро соглашается. Даёт мне стопку документов. В них надо записывать ФИО переселенца, количество человек в семье и формировать пайки. Название продуктов тоже надо записывать. Сечку берут не все.
Дело идёт быстрее. Инна убежала куда-то договариваться о полках, которые должны подвезти. На них дали деньги меценаты. Цена вопроса — семь тысяч гривен. Я стараюсь сунуть побольше консервов тем, у кого семья большая, при этом в голове витает этическое уравнение: насколько справедливо я поступаю — на всех же не хватит. Задача разрешается чудесным образом. Инна-Снегурочка возвращается с подарками: приносит рюкзачок с консервами.
Мы слаженно трудимся три часа. За это время Сковорода становится мне почти родным. Мы понимаем друг друга с полуслова.
— Тут многодетная семья. Давайте им вместо одной две банки консервов дадим?
— Лучше три. У них ещё бабушка.
Последний посетитель — разговорчивый дед из Луганска. Чернобылец. Сбежал в Киев вместе с женой. Жена — инвалид. Он тоже. Деду достаётся сечка, лекарство от давления и талончик на обед при церкви. Тушёнки, увы, уже не хватило.
Выбираемся из подвала, когда солнце почти село.
— Вы кто по профессии? — спрашиваю Сковороду.
— Технические тренинги провожу.
— А вы?
— Журналист. Жаль, что пакет с макаронами порвался.
— Дед его забрал.
Втроём выходим за ограду. Инна и Сковорода крестятся. Я закуриваю. В голове пусто, на сердце легко. Будто в мой череп вставили прожектор и мир вновь обрёл цвет, вкус, запах и форму.
Разглядывая жестяные башенки тушёнки, пытаюсь прикинуть, хватит ли продуктов на всю очередь. Понимаю, что большинству светит только сечка. Жалею, что пришла с пустыми руками.
Появляется аккуратная, похожая на Снегурочку Инна. Знакомимся. Инна рассказывает, что утром приехал мужчина и привёз три тысячи гривен, на которые закупили макароны и тушёнку, сейчас они тоже заканчиваются, а в очереди ещё много людей. Инна замечает разорванную упаковку с вермишелью и расстраивается.
Под прицелом хмурых глаз из очереди она складывает в пакет бутылку подсолнечного масла, сечку и банку тушёнки. Это для старика, которого ей предстоит навестить вечером. Старик приехал в Киев из Луганской области. Поселился на вокзале. Просить не умел, поэтому голодал. Там его полумёртвого нашли волонтёры. Отвезли в больницу. Старику диагностировали рак желудка. Сейчас он живёт на съёмной квартире и почему-то не отвечает по мобильному, который ему тоже купили волонтёры. Инна эту историю выкладывает без эмоций, просто констатируя факты — нашли, привезли, откачали, теперь у него рак, обострение, вероятно, спровоцированное голодом, и депрессия.
Пока мы разговариваем, Сковорода записывает и формирует пайки. Из обрывков фраз узнаю, что ещё утром он и предположить не мог, чем будет заниматься. Просто решил зайти и принести какую-то еду. Помощников в тот день у Инны не было. Вот она и попросила его остаться. Я предлагаю помощь. Инна быстро соглашается. Даёт мне стопку документов. В них надо записывать ФИО переселенца, количество человек в семье и формировать пайки. Название продуктов тоже надо записывать. Сечку берут не все.
Дело идёт быстрее. Инна убежала куда-то договариваться о полках, которые должны подвезти. На них дали деньги меценаты. Цена вопроса — семь тысяч гривен. Я стараюсь сунуть побольше консервов тем, у кого семья большая, при этом в голове витает этическое уравнение: насколько справедливо я поступаю — на всех же не хватит. Задача разрешается чудесным образом. Инна-Снегурочка возвращается с подарками: приносит рюкзачок с консервами.
Мы слаженно трудимся три часа. За это время Сковорода становится мне почти родным. Мы понимаем друг друга с полуслова.
— Тут многодетная семья. Давайте им вместо одной две банки консервов дадим?
— Лучше три. У них ещё бабушка.
Последний посетитель — разговорчивый дед из Луганска. Чернобылец. Сбежал в Киев вместе с женой. Жена — инвалид. Он тоже. Деду достаётся сечка, лекарство от давления и талончик на обед при церкви. Тушёнки, увы, уже не хватило.
Выбираемся из подвала, когда солнце почти село.
— Вы кто по профессии? — спрашиваю Сковороду.
— Технические тренинги провожу.
— А вы?
— Журналист. Жаль, что пакет с макаронами порвался.
— Дед его забрал.
Втроём выходим за ограду. Инна и Сковорода крестятся. Я закуриваю. В голове пусто, на сердце легко. Будто в мой череп вставили прожектор и мир вновь обрёл цвет, вкус, запах и форму.
«Привет. Не хотите дать мне денег? Мы бы на них продуктов купили для беженцев»

Так начинался мой текст в Facebook о переселенцах
Кто сколько может
Трёхчасовая очередь за сечкой и дед-чернобылец меня доконали. Решила хоть как-то помочь.
К моему удивлению, из трёхсот «друзей» откликается человек десять. С пятью из них я знакома лишь виртуально. «Сбрось (те) счёт», — десять раз написали в личку. «У меня его нет», — десять раз ответила я. И пошло-поехало:
К моему удивлению, из трёхсот «друзей» откликается человек десять. С пятью из них я знакома лишь виртуально. «Сбрось (те) счёт», — десять раз написали в личку. «У меня его нет», — десять раз ответила я. И пошло-поехало:
«Позвони в издание такое-то, забери мой гонорар за (непроизносимое название научной статьи)», — строчит одноклассница из Чикаго. — «Ок».
«Какая сумма уместна?» — знакомый миллионер. Отвечаю: «Тысяча гривен». — «Бери три».
«Как пересечёмся?» — коллега. — «Буду на Арсенальной в 11:30 в субботу».
«В пятницу обещали бабло за халтуру, могу поделиться», — сценарист компьютерных игр и убеждённый потребитель конопли.
«Денег нет, но могу с тобой к ним сходить», — безработная подруга Лена.
«Могу дать сто баксов», — одноклассница, галерист.
«Какая сумма уместна?» — знакомый миллионер. Отвечаю: «Тысяча гривен». — «Бери три».
«Как пересечёмся?» — коллега. — «Буду на Арсенальной в 11:30 в субботу».
«В пятницу обещали бабло за халтуру, могу поделиться», — сценарист компьютерных игр и убеждённый потребитель конопли.
«Денег нет, но могу с тобой к ним сходить», — безработная подруга Лена.
«Могу дать сто баксов», — одноклассница, галерист.
Со сбором денег происходит любопытная штука. Расчётного счёта под благотворительность у меня нет, открывать его я не собираюсь, поскольку заниматься этим постоянно как посредник не могу. Я чётко поняла правило, которое наверняка знают профессионалы. Факт перечисления напрямую связан с сиюминутным порывом жертвователя. Если возникают препятствия — например, надо пересечься в городе в рабочее время, — некоторые сходят с лыжни.
К озвученной сумме плюсую сотню долларов, на которую одноклассница-галерист закупила продукты и сама отвезла в пункт раздачи. Заодно познакомилась с тамошним «неместным» хромым. Она, в отличие от меня, его историю дослушала до конца.
— Я поражена, я поражена, — чуть не плачет в трубку одноклассница-галерист.
— Приехал в Киев на лечение, всё, что было, потратил, теперь собирает деньги на билет домой. Ты знаешь, мне его так жаль стало, что пришлось у дочки забрать карманные деньги.
— Он тебя обманул, — ворчу я.
Она это и без меня чувствует. Попрощавшись, задумываюсь, что движет непохожими друг на друга людьми, не пожалевшими денег. С любителем конопли всё понятно: он веган и пацифист, однажды я видела, как он прогонял из кухни моль, которую ему жаль было убивать. Миллионер удивил — оказывается, он помогает старикам и не афиширует этого. У коллеги громадные добрые глаза. Позже я узнала, что она постоянно кому-то что-то перечисляет. Объединяет этих людей сочувствие к тем, кто попал в беду. Мощное и правильное чувство, которое помогает оставаться человеком, даже если понимаешь, что хромой тебя дурит. Хромой, который, может, и не калека вовсе, делает это не от хорошей жизни. Так что всё правильно.
— Я поражена, я поражена, — чуть не плачет в трубку одноклассница-галерист.
— Приехал в Киев на лечение, всё, что было, потратил, теперь собирает деньги на билет домой. Ты знаешь, мне его так жаль стало, что пришлось у дочки забрать карманные деньги.
— Он тебя обманул, — ворчу я.
Она это и без меня чувствует. Попрощавшись, задумываюсь, что движет непохожими друг на друга людьми, не пожалевшими денег. С любителем конопли всё понятно: он веган и пацифист, однажды я видела, как он прогонял из кухни моль, которую ему жаль было убивать. Миллионер удивил — оказывается, он помогает старикам и не афиширует этого. У коллеги громадные добрые глаза. Позже я узнала, что она постоянно кому-то что-то перечисляет. Объединяет этих людей сочувствие к тем, кто попал в беду. Мощное и правильное чувство, которое помогает оставаться человеком, даже если понимаешь, что хромой тебя дурит. Хромой, который, может, и не калека вовсе, делает это не от хорошей жизни. Так что всё правильно.
«Мир отказывается от депрессивных бедняков; и сами они отделяют себя от мира, теряя главное из человеческих качеств — свободу воли»

Эндрю Соломон «Демон полуденный»
Дорога к храму
За продуктами со мной идёт Лена. Накануне я провела соцопрос — посоветовалась со всеми, с кем смогла, опросила переселенцев и по итогам всех этих «полевых исследований» составила список продуктов и предметов первой необходимости. Стиральный порошок на первом месте. Консервы и крупы — на втором. На третьем — детские сиропы от кашля и жаропонижающее.
Идём в супермаркет, который находится в одной троллейбусной остановке от церкви. Как спекулянты гребём всё, что подешевле. Главный принцип — побольше. Порошок забрали весь. Налегли на рыбные консервы. Рассудили, что тушёнку наверняка кто-то принесёт. Деньги всё не заканчивались.
Я стараюсь игнорировать продукты страны-агрессора. Вспоминаю историю Индиры Ганди, детство которой пришлось на период противостояния с Британией, когда сознательные граждане отказывались от потребления британских товаров — маленькая Ганди тогда выбросила свою любимую куклу. Пламенно пересказываю её Лене.
— Что за глупости! — возмущается она. — Невозможно производить всё. Неправильно циклиться на украинских товарах.
— Ясно, — отвечаю и упрямо пропускаю мимо российские рыбные консервы.
Цены на них почти такие же, как на наши. Разница — плюс-минус 2–3 гривны. Спустя месяц, когда гривна рухнет и цены на все товары, кроме российских, подскочат почти втрое, я плюну на свой принцип и российский триколор рядом с ценником будет означать для меня только то, что эти бычки в томате или те сардины в масле дешевле украинских аналогов, а значит, их хватит на большее количество человек.
На выходе у нас четыре громадных пакета, набитых упаковками со стиральным порошком, рыбными консервами, гречкой, рисом и банками с горошком. На такси налички уже нет. Тащимся к остановке.
Мимо проносится джип с донецкими номерами. Два мужика на остановке завистливо смотрят модной тачке вслед и ругают владельца. Подъезжает маршрутка. С трудом забираемся внутрь. Потом тащимся к знакомому шлагбауму, который перекрывает дорогу, ведущую к храму. Подлетает очередной джип, номера киевские, за рулём священник. Шлагбаум поднимается, и Шумахер в рясе несётся мимо нас к церкви. Лена с презрением смотрит вслед православной тачке:
— Ты мне на день рождения покупать подарок планируешь? Не надо, потрать лучше на беженцев.
Я стараюсь игнорировать продукты страны-агрессора. Вспоминаю историю Индиры Ганди, детство которой пришлось на период противостояния с Британией, когда сознательные граждане отказывались от потребления британских товаров — маленькая Ганди тогда выбросила свою любимую куклу. Пламенно пересказываю её Лене.
— Что за глупости! — возмущается она. — Невозможно производить всё. Неправильно циклиться на украинских товарах.
— Ясно, — отвечаю и упрямо пропускаю мимо российские рыбные консервы.
Цены на них почти такие же, как на наши. Разница — плюс-минус 2–3 гривны. Спустя месяц, когда гривна рухнет и цены на все товары, кроме российских, подскочат почти втрое, я плюну на свой принцип и российский триколор рядом с ценником будет означать для меня только то, что эти бычки в томате или те сардины в масле дешевле украинских аналогов, а значит, их хватит на большее количество человек.
На выходе у нас четыре громадных пакета, набитых упаковками со стиральным порошком, рыбными консервами, гречкой, рисом и банками с горошком. На такси налички уже нет. Тащимся к остановке.
Мимо проносится джип с донецкими номерами. Два мужика на остановке завистливо смотрят модной тачке вслед и ругают владельца. Подъезжает маршрутка. С трудом забираемся внутрь. Потом тащимся к знакомому шлагбауму, который перекрывает дорогу, ведущую к храму. Подлетает очередной джип, номера киевские, за рулём священник. Шлагбаум поднимается, и Шумахер в рясе несётся мимо нас к церкви. Лена с презрением смотрит вслед православной тачке:
— Ты мне на день рождения покупать подарок планируешь? Не надо, потрать лучше на беженцев.

Сара Кейн «Подорванные»
«Ян. Это моя работа. Я люблю эту страну. Не могу видеть, как ее разрушают эти подонки.
Кейт. Это не хорошо, убивать.
Ян. Подкладывать бомбы и убивать маленьких детей, вот что не хорошо»
Кейт. Это не хорошо, убивать.
Ян. Подкладывать бомбы и убивать маленьких детей, вот что не хорошо»
Шуба
Спуск в подвал начинается с приключения. Одна из женщин в очереди, смущаясь, спрашивает, можно ли ей одну упаковочку стирального порошка. Когда она берёт, другие по мере нашего продвижения по ступенькам делают то же самое. Переглядываемся с Леной и понимаем, что надо быстрее делать ноги, потому что менее активным ничего не достанется. Ловлю себя на мысли, что лица людей, которые ведут себя более сдержанно, нравятся мне больше.
Наконец спускаемся в подвал. Его не узнать — уже дотягивает до подсобки учителя по труду. По периметру помещения прибиты железные стеллажи. На них рассортированные продукты, лекарства, книги, карандаши, блокноты для детей. Регистрацией занимаются уже три человека. Двое других собирают продуктовые наборы. Включаемся с подругой в работу. Узнаём, что несколько волонтёров из переселенцев. Их пакеты с едой стоят в стороне. Помогаем формировать пайки и сортировать продукты. Я особенно горжусь консервированным горошком. Его принесли только мы. Порошок быстро заканчивается.
Работаю в паре со строгой крупной женщиной. Мы не нравимся друг другу. Я стараюсь, как и в прошлый раз, впихивать побольше консервов многодетным мамашам и старикам. Тем более что на этот раз чувствую за собой такое право — я пришла не с пустыми руками. Встречаю неожиданное сопротивление:
— Сказано: по одной банке!
Я злюсь, потому что консервов много. Но молчу. У нас возникает тихая, невидимая война. Я тайно подкладываю в пакет лишние шпроты. Это замечает напарница, и консервы перекочёвывают обратно на полку.
Молчу… Она школьная учительница. Списываю её неадекватное поведение на издержки профессии.
С этой учительницей я ещё столкнусь. Недели через две мои друзья в очередной раз соберут деньги на продукты, и я очередной раз притащу их сюда. Мы сцепимся в немой борьбе из-за конфет. Учительница будет уверена, что их можно давать только семьям с детьми, я — что всем. Я их специально куплю для всех накануне праздника. Конфет много. Особенно возмутит мою напарницу по раздаче то, что я всем правилам наперекор дам конфеты нестарой, неплохо одетой барышне.
Наконец спускаемся в подвал. Его не узнать — уже дотягивает до подсобки учителя по труду. По периметру помещения прибиты железные стеллажи. На них рассортированные продукты, лекарства, книги, карандаши, блокноты для детей. Регистрацией занимаются уже три человека. Двое других собирают продуктовые наборы. Включаемся с подругой в работу. Узнаём, что несколько волонтёров из переселенцев. Их пакеты с едой стоят в стороне. Помогаем формировать пайки и сортировать продукты. Я особенно горжусь консервированным горошком. Его принесли только мы. Порошок быстро заканчивается.
Работаю в паре со строгой крупной женщиной. Мы не нравимся друг другу. Я стараюсь, как и в прошлый раз, впихивать побольше консервов многодетным мамашам и старикам. Тем более что на этот раз чувствую за собой такое право — я пришла не с пустыми руками. Встречаю неожиданное сопротивление:
— Сказано: по одной банке!
Я злюсь, потому что консервов много. Но молчу. У нас возникает тихая, невидимая война. Я тайно подкладываю в пакет лишние шпроты. Это замечает напарница, и консервы перекочёвывают обратно на полку.
Молчу… Она школьная учительница. Списываю её неадекватное поведение на издержки профессии.
С этой учительницей я ещё столкнусь. Недели через две мои друзья в очередной раз соберут деньги на продукты, и я очередной раз притащу их сюда. Мы сцепимся в немой борьбе из-за конфет. Учительница будет уверена, что их можно давать только семьям с детьми, я — что всем. Я их специально куплю для всех накануне праздника. Конфет много. Особенно возмутит мою напарницу по раздаче то, что я всем правилам наперекор дам конфеты нестарой, неплохо одетой барышне.
Барышня сразу не понравилась не только учительнице, но и остальным волонтёрам. Дело в шубе. У неё она была. У них нет. Она из Донецка.
Большинство волонтёров — так совпало в тот день — из Луганска. Вероятность пересечения их в прошлой, мирной жизни равна нулю. Сейчас она, красивая в своей норке, зависит от них, бедных. Красота и шуба не всегда работают на руку их обладательнице. Мне жаль эту тётку в шубе. В нашем подвале она выглядит, как заморская птица в грубо сколоченной клетке.
Сечку она взяла.
Сечку она взяла.
«Ничто не сталкивает вас с реальностью так, как человеческое горе: рассказы о страданиях и смертях и взгляды голодных искалеченных детей»

Анджелина Джоли
Актириса
Подвал как выход
У подвалов появляется новый смысл во время войны. Это их период расцвета. Они становятся нужны. И каждое помещение, которое попало под раздачу войны, обретает своё неповторимое лицо. В них можно спрятаться от бомбёжки. В интернете полно снимков убитых подвальных помещений с тусклым освещением, с сидящими на старых матрасах улыбающимися детьми и женщинами с потухшими глазами, с растерянными мужчинами, которые нелепо держат в руках упаковку памперсов, которую им только что вручил волонтёр, а фотограф поймал момент.
У тыловых подвалов другой антураж. Продукты на стеллажах, рассортированная одежда, громадные пакеты с гуманитарной помощью. Наш подвал за четыре месяца забурел. Стал респектабельным. Каждый раз появляясь там, я видела, как он хорошеет. От заплесневевшего хлеба и картонных коробок, стоящих прямо на полу, до расфасованных продуктовых наборов на пристенных стеллажах.
К весне упорядочилась и работа центра. Волонтёры записывают тех, кто звонит, потом мониторят потребности. Предпочтения отдаются многодетным семьям и семьям с детьми до двух лет, потом идут инвалиды и одинокие пенсионеры. Прочие — это третья категория. Думаю, у барышни в шубе — ноль шансов.
Последний раз я там была в конце марта. Отовариваться мне по-прежнему помогает Лена, которая к тому моменту уже нашла работу. Мы решили порадовать женщин и в дополнение к традиционному набору купили прокладки. Упаковок сорок. Когда пришли, работа шла полным ходом. Пока мы с Леной вытаскиваем и расставляем консервы и порошки, прокладки исчезают. Первый порыв — выяснить, кто их украл. Второй — успокаиваю себя мыслью о том, что их быстро раздали.
Крупная женщина-волонтёр жалуется, что её ботинки развалились. Один из них действительно «просит каши». Кажется, она из Донецкой области, я не запомнила точно, но вот то, что у неё сорок второй размер, врезалось в память. Моя учительница звонит знакомым и за пять минут договаривается о новой паре обуви.
К весне упорядочилась и работа центра. Волонтёры записывают тех, кто звонит, потом мониторят потребности. Предпочтения отдаются многодетным семьям и семьям с детьми до двух лет, потом идут инвалиды и одинокие пенсионеры. Прочие — это третья категория. Думаю, у барышни в шубе — ноль шансов.
Последний раз я там была в конце марта. Отовариваться мне по-прежнему помогает Лена, которая к тому моменту уже нашла работу. Мы решили порадовать женщин и в дополнение к традиционному набору купили прокладки. Упаковок сорок. Когда пришли, работа шла полным ходом. Пока мы с Леной вытаскиваем и расставляем консервы и порошки, прокладки исчезают. Первый порыв — выяснить, кто их украл. Второй — успокаиваю себя мыслью о том, что их быстро раздали.
Крупная женщина-волонтёр жалуется, что её ботинки развалились. Один из них действительно «просит каши». Кажется, она из Донецкой области, я не запомнила точно, но вот то, что у неё сорок второй размер, врезалось в память. Моя учительница звонит знакомым и за пять минут договаривается о новой паре обуви.
В этом подвале сконцентрировалось всё то светлое и тёмное, что есть в лабиринтах человеческих душ, — обычный коктейль. В какой-то момент я чётко понимаю, что здесь нет случайных людей. Сюда приходят те, кому от него, как от волшебника из страны Оз, что-то надо. Одним целые ботинки, другим — избавление от чувства вины. В тот день я поняла, что этот подвал дал мне всё, что мне от него было надо. И значит, больше я сюда не вернусь.

Фото: Getty Images, olga-kulaj.livejournal.com, открытые источники