Тогда это выглядело очередным забавным пересечением биографии с литературой. К этому относилась и главная сюжетная пружина «Московского дивертисмента» — гибридная война грызунов-мутантов со всеми, кто не они. Зимой 2014-го моя дочь увлеклась «Щелкунчиком» Гофмана, и мы прочли его от корки до корки раз десять. Наши победили в обеих книгах. Победили, несмотря на ускользающее понимание читателей, кто, собственно, эти «наши».
В марте 2014-го жизнь то и дело сливалась с литературой в одно целое. В Крым вошли войска без опознавательных знаков. Вспыхнуло нечто, названное референдумом. После добровольного участия в нём крымчан между мной и малой родиной пролегла граница. Призрачная и невидимая — я наблюдала за событиями из Киева.
В голове постоянно вертелось слово «жнива». Ужасное сочетание звуков из моего детства. Оно означало, что родители, отдавшие себя службе сельскому хозяйству полуострова, будут шумно вставать в три утра. В какой-то особенно засушливый год отец в поле потерял сознание: сердечный приступ. Очнувшись в больнице и увидев нас с мамой, первое, что произнёс белыми губами, было: «Дождь?»
Бабушка не пускала меня гулять. Потому что стыдно. Стыдно отдыхать, когда другие работают на износ. В 2014-м мне больше пригодится другое её убеждение: «Дитино, коли не знаєш, шо робити, роби шо-небудь».
дневник репортёра
Мой Крым
Как корреспондент Фокуса допустила аннексию полуострова

Лариса Даниленко
Журналист
Всё началось с романа. «Московский дивертисмент» донецкого писателя Владимира Рафеенко ворвался в мою киевскую жизнь вместе с новым, 2014-м годом. Среди невероятных превращений и образов алхимической прозы маячил таинственный Перевал. Его регулярно пересекает главный герой книги, путешествуя из Москвы и обратно. Мне показалось, что я легко узнала прототип — Ангарский, который отделяет южный берег полуострова от моего родного Симферополя. За Перевалом герой становится совсем другим человеком. С другим именем и другой судьбой.
Жнива
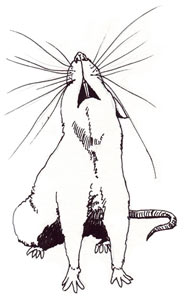
Опасная высота
В страшную февральскую Масленицу упомянутого года я буду печь блины. Мой муж на два дня закроется в комнате. Чувство вины за то, что не поехал на Майдан, а был на работе и остался жив, тогда ещё было далеко от спасительных рефлексий. В одной из больниц Киева будет умирать моя севастопольская подруга, от которой отказались все клиники Крыма. Моя дочь начнёт безостановочно болеть. Месяца на полтора её температура заклинит на отметке 39,9 градусов.
В это время в Крыму вовсю зазеленеют человечки с автоматами. Посеянные Россией зёрна попрут, как китайский бамбук сквозь тела приговорённых. «У моего подъезда вооружённый солдат, какой ужас», — скажет по телефону мама. «У нашего подъезда военный с ружьём, мы в безопасности», — из того же дома сообщит жена брата. Я боюсь, что убьют всех.
В марте выяснилось, что не убили. Выдыхаю. Пытаюсь найти интонацию, с которой могу хоть как-то относиться к происходящему. Разум спотыкается. Чувства напоминают об очевидном: не так всё просто с этим жутким референдумом и выбором крымчан. Для многих моих знакомых — это не имперское, не экономическое, а исключительно культурное событие чрезвычайной важности. Многолетняя мечта, свалившаяся в руки. Журавль с неба, который ни с того ни с сего решил стать домашней птицей. Шанс, отказаться от которого выше человеческих сил.
В это время в Крыму вовсю зазеленеют человечки с автоматами. Посеянные Россией зёрна попрут, как китайский бамбук сквозь тела приговорённых. «У моего подъезда вооружённый солдат, какой ужас», — скажет по телефону мама. «У нашего подъезда военный с ружьём, мы в безопасности», — из того же дома сообщит жена брата. Я боюсь, что убьют всех.
В марте выяснилось, что не убили. Выдыхаю. Пытаюсь найти интонацию, с которой могу хоть как-то относиться к происходящему. Разум спотыкается. Чувства напоминают об очевидном: не так всё просто с этим жутким референдумом и выбором крымчан. Для многих моих знакомых — это не имперское, не экономическое, а исключительно культурное событие чрезвычайной важности. Многолетняя мечта, свалившаяся в руки. Журавль с неба, который ни с того ни с сего решил стать домашней птицей. Шанс, отказаться от которого выше человеческих сил.
Крысы первыми бегут
на корабль
Я никогда не пойму, про что был рок-н-ролл моей юности, если он не был против тоталитаризма, культа личности, позиции силы, преследования несогласных и имперской прожорливости. Тем не менее в марте 2014-го я открою Facebook, чтобы искренне пожелать своим близким попутного ветра. Хочу запостить песню Friendship нереально красивой шведской The Real Group. Каждый звук — в душу. Каждое слово — в цель. Строки You need to travel within your heart, The stars will guide you (Вам нужен путь, выбранный сердцем, Звёзды поведут вас) выглядят особенно подходящими.
Звонок старого друга останавливает: «Мы в России. Я счастлив. Теперь всё, что мне мешает жить, это государство Украина. Я мечтаю о том, чтобы оно перестало существовать и ты поскорее вспомнила о своей русской душе и забыла об украинской крови». От того, чтобы запостить недавно услышанный хит группы «Ленинград» — песню «Дорожная» со звучным припевом «Ехай Нах… навсегда» меня останавливает только одна мысль: туда же, если что, поедет моя мама.
Звонок старого друга останавливает: «Мы в России. Я счастлив. Теперь всё, что мне мешает жить, это государство Украина. Я мечтаю о том, чтобы оно перестало существовать и ты поскорее вспомнила о своей русской душе и забыла об украинской крови». От того, чтобы запостить недавно услышанный хит группы «Ленинград» — песню «Дорожная» со звучным припевом «Ехай Нах… навсегда» меня останавливает только одна мысль: туда же, если что, поедет моя мама.

В мае выяснилось, что в нашем симферопольском доме небывалое количество крыс. «Такое же было перед войной. Надо готовиться», — сказала мама. Готовились в Крыму. Грянуло в Донбассе. Писателя и звонаря донецкого Свято-Преображенского собора Владимира Рафеенко силовики свинтили прямо с колокольни. После этого он понял, что пора. И вместе со своей женой Лесей оказался в киевской квартире моего друга. Там мы и познакомились.
Позже, на пикнике в честь хорошего настроения, Володя подарит мне новую книгу Софии Андрухович «Фелікс-Австрія». Время на то, чтобы её прочитать, найдётся в июле 2015-го. Я наконец-то увижу своими глазами то, что случилось с Крымом за последние полтора года, и целый день проведу на границе. Засаженной подсолнухами и заваленной мусором с украинской стороны. Обитой адской белой вагонкой и пропитанной запахом хлорки — с российской.
Позже, на пикнике в честь хорошего настроения, Володя подарит мне новую книгу Софии Андрухович «Фелікс-Австрія». Время на то, чтобы её прочитать, найдётся в июле 2015-го. Я наконец-то увижу своими глазами то, что случилось с Крымом за последние полтора года, и целый день проведу на границе. Засаженной подсолнухами и заваленной мусором с украинской стороны. Обитой адской белой вагонкой и пропитанной запахом хлорки — с российской.
Мы с Софией на границе
За всё лето здесь первый жаркий день. Со мной в машине — семья, которая едет с похорон из украинской Новоалексеевки. Юноша в нелепых шортах, жёлто-голубой майке и в наушниках. Водитель — татарин-сталкер, профессионально успокаивающий тех, кто в чём-то сомневается. Мы исходим потом и смотрим на проволочную клетку, плотно забитую пересекающими границу пешеходами. В сорокаградусную жару над ними нет ничего, хотя бы отдалённо напоминающего тент.
Посередине дороги, забитой транспортом, за порядком присматривает парнишка в широкой чёрной форме — украинский пограничник, добродушный, измотанный. Я читаю роман, мой попутчик слушает американскую попсу. Семейство бегает в подсолнухи и за кофе в специальную палатку.
Проходит восемь часов.
Вечереет. Украинский досмотр. Минут двадцать — и мы в буферной зоне, с первым российским солдатом. Автомат наперевес, вежливая улыбка. Остальные служивые пограничных войск России наводят на мысль о фейс-контроле перед переброской в Крым: круглолицые, голубоглазые, с льняными волосами, зачёсанными на пробор. Форма по размеру, пуговицы в ряд золотом горят. Документы проверяют девушки в белоснежных сорочках и юбках-карандашах. На их яркий макияж не влияет ни жара, ни нервная служба.
Посередине дороги, забитой транспортом, за порядком присматривает парнишка в широкой чёрной форме — украинский пограничник, добродушный, измотанный. Я читаю роман, мой попутчик слушает американскую попсу. Семейство бегает в подсолнухи и за кофе в специальную палатку.
Проходит восемь часов.
Вечереет. Украинский досмотр. Минут двадцать — и мы в буферной зоне, с первым российским солдатом. Автомат наперевес, вежливая улыбка. Остальные служивые пограничных войск России наводят на мысль о фейс-контроле перед переброской в Крым: круглолицые, голубоглазые, с льняными волосами, зачёсанными на пробор. Форма по размеру, пуговицы в ряд золотом горят. Документы проверяют девушки в белоснежных сорочках и юбках-карандашах. На их яркий макияж не влияет ни жара, ни нервная служба.
Большая разница
С этой минуты и до возвращения в Киев ощущение того, что я нахожусь в центре пародии «Цветной Штирлиц» программы «Большая разница», не отпустит. Всё, что меня окружает, внезапно меняет окрас с привычного на невероятный. Раскрашенными выглядят даже винтовки в неестественно белых руках солдат. Что уж говорить о гигантской вывеске «РОССИЯ» там, где всегда было написано «КРЫМ».
Заметив, что в моих руках книга на украинском, парень в жёлто-голубом медленно вставляет чипсы наушников в уши. Он понимает, что я улавливаю его музыку, и включает гимн Украины. Маленький героический спектакль одного актёра с одним зрителем освежает, как прохладный душ.
Наполненный капризными панночками, галицкими диалектизмами и бродячими фокусниками роман Андрухович покидает берега психологической прозы. На последних страницах он превращается в иллюзию. Реальность — всего лишь картина в глазах смотрящего. И не надо думать о ней лучше. Не раз за эту поездку я мысленно поблагодарю мудрую Софию за напоминание.
Чуть позже мой сосед по машине выйдет из авто и направится к белоснежному российскому туалету. Он попытается подобрать несуществующий подол шорт. Я догадаюсь: священник, недавно снявший рясу.
Господи, на всё Твоя воля. И если бы только Твоя.
Заметив, что в моих руках книга на украинском, парень в жёлто-голубом медленно вставляет чипсы наушников в уши. Он понимает, что я улавливаю его музыку, и включает гимн Украины. Маленький героический спектакль одного актёра с одним зрителем освежает, как прохладный душ.
Наполненный капризными панночками, галицкими диалектизмами и бродячими фокусниками роман Андрухович покидает берега психологической прозы. На последних страницах он превращается в иллюзию. Реальность — всего лишь картина в глазах смотрящего. И не надо думать о ней лучше. Не раз за эту поездку я мысленно поблагодарю мудрую Софию за напоминание.
Чуть позже мой сосед по машине выйдет из авто и направится к белоснежному российскому туалету. Он попытается подобрать несуществующий подол шорт. Я догадаюсь: священник, недавно снявший рясу.
Господи, на всё Твоя воля. И если бы только Твоя.
Мой Симферополь,
ворота Крыма
Раньше песня с такими словами встречала киевские поезда на вокзале. Гимн города в исполнении покойного крымского баритона Юрия Богатикова звучал смешно и празднично. Теперь вокзал пуст и непривычно чист.
Лето 2015-го — редкое: полтора месяца каждый день идут дожди. Небывалая в июле пышная зелень без привычных жёлтых подпалин. Центр выметен и вымыт. Новенькие городские троллейбусы сияют ослепительными окнами. Новые магазины: «Гастроном», «Универмаг», «Универсам», «Спорттовары».
Ни одной вывески на украинском или крымскотатарском языках. Полно полицейских в шапках с кокардами, в голубых сорочках с погонами, в чёрных брюках со «стрелками». Дорогу пересекает стайка детей — белый верх, тёмный низ. С ними взрослая девушка в такой же форме и с красным галстуком. «Русские опять раскрасили Штирлица», — вспоминаю я и на время успокаиваюсь.
Чем бы ни заканчивались мои разговоры с крымчанами, начинаются они со слов: «Понимаешь, мы все родом из СССР». Теперь понимаю. И содрогаюсь от мысли, что пара месяцев в такой реальности оставила бы мало шансов видеть другую. После расстрелянного Майдана я утратила способность плакать. Она в полной мере догоняет меня здесь: слёзы брызжут бахчисарайским фонтаном всякий раз, когда звучит слово «война». Я не могу понять, как мы всё это допустили. Как я здесь оказалась. Что всё это значит. И как теперь быть.
Чистенькая благостная бабушка в платочке, улыбаясь солнцу, идёт навстречу. Её губы шевелятся, наверное, молится. Поравнявшись с ней, слышу: «Чтоб вы повыздыхали там, бандеровцы, фашисты, внучка единственного убить хотят». Видимо, внучок получил повестку в российский военкомат. В этот момент я окончательно покидаю границы Украины и литературы, созданной в ней. Легко представляю бабушку персонажем прозы Владимира Сорокина. Понимаю, что ни один из своих вопросов я больше не могу оставить в разряде риторических. В лучших пелевинских традициях мозг запускает «перемотку» — отсчёт жизни в обратном порядке. Ответы где-то там.
Лето 2015-го — редкое: полтора месяца каждый день идут дожди. Небывалая в июле пышная зелень без привычных жёлтых подпалин. Центр выметен и вымыт. Новенькие городские троллейбусы сияют ослепительными окнами. Новые магазины: «Гастроном», «Универмаг», «Универсам», «Спорттовары».
Ни одной вывески на украинском или крымскотатарском языках. Полно полицейских в шапках с кокардами, в голубых сорочках с погонами, в чёрных брюках со «стрелками». Дорогу пересекает стайка детей — белый верх, тёмный низ. С ними взрослая девушка в такой же форме и с красным галстуком. «Русские опять раскрасили Штирлица», — вспоминаю я и на время успокаиваюсь.
Чем бы ни заканчивались мои разговоры с крымчанами, начинаются они со слов: «Понимаешь, мы все родом из СССР». Теперь понимаю. И содрогаюсь от мысли, что пара месяцев в такой реальности оставила бы мало шансов видеть другую. После расстрелянного Майдана я утратила способность плакать. Она в полной мере догоняет меня здесь: слёзы брызжут бахчисарайским фонтаном всякий раз, когда звучит слово «война». Я не могу понять, как мы всё это допустили. Как я здесь оказалась. Что всё это значит. И как теперь быть.
Чистенькая благостная бабушка в платочке, улыбаясь солнцу, идёт навстречу. Её губы шевелятся, наверное, молится. Поравнявшись с ней, слышу: «Чтоб вы повыздыхали там, бандеровцы, фашисты, внучка единственного убить хотят». Видимо, внучок получил повестку в российский военкомат. В этот момент я окончательно покидаю границы Украины и литературы, созданной в ней. Легко представляю бабушку персонажем прозы Владимира Сорокина. Понимаю, что ни один из своих вопросов я больше не могу оставить в разряде риторических. В лучших пелевинских традициях мозг запускает «перемотку» — отсчёт жизни в обратном порядке. Ответы где-то там.
Язык мой — враг мой
На дворе — нулевые, в кошельке тоже ноль. Я и мои друзья пашем, как звери. У каждого в послужном списке несколько колледжей, школ и вузов. Преподаём все, что преподаётся. Зарабатываем на сигареты и чай. Если везёт, зарплату выплачивают с опозданием всего на месяц. Тогда собираемся и пируем. У меня в гостях — московский поэт и участник поэтического объединения «Полуостров» Коля Звягинцев. В год смерти моего папы, в 2003-м, он напишет волшебные слова о чувстве полёта, Москве и Крыме. Красотой и пророческими прожилками две последних строфы по сей день сводят меня с ума:
В татарском посёлке ветер, и белая стая
Рисует великой эпохе то, что зовётся «кроки».
А если смотреть под ноги — там сапоги подрастают,
Становятся лодки фелюгами, стираются каблуки.
Сейчас свои туфли-лодочки сбросит пловчиха Леда.
Больше таких не встретишь — туфель, стекла, глосс.
У девушки мокрые волосы — значит, в Крыму лето,
Или кому-то в Москве захотелось мокрых волос.
Рисует великой эпохе то, что зовётся «кроки».
А если смотреть под ноги — там сапоги подрастают,
Становятся лодки фелюгами, стираются каблуки.
Сейчас свои туфли-лодочки сбросит пловчиха Леда.
Больше таких не встретишь — туфель, стекла, глосс.
У девушки мокрые волосы — значит, в Крыму лето,
Или кому-то в Москве захотелось мокрых волос.
В августе 2015-го стёршийся из памяти текст мне приснился целиком. Я проснулась с давно забытым чувством безоблачной радости. Я не буду помнить о войне в Донбассе и о Майдане. Мне остро захочется поделиться светлым состоянием. От публикации Колиного стихотворения в Facebook остановит окончательное пробуждение и мысли о комментах по поводу последней строки. Закипевшей кровью я прочувствую масштаб случившейся культурной катастрофы. И моей личной трагедии: территории внутренней свободы, казавшейся вечной и независимой от идеологической погоды, больше нет. Как нет папы, мирного неба над головой и беспечной болтовни с крымскими друзьями.
Как и со мной, всё лучшее с ними случилось на русском языке. Там, где сильны чувства, разум слаб. Я предельно ясно понимаю, что, будь украинское правительство гибче в языковом вопросе, у Путина было бы чуть меньше шансов положить полуостров в свой взбесившийся карман. Но едва ли это бы что-то кардинально изменило. Сладким антиукраинским ядом крымчан кормили долго и умело.
Как и со мной, всё лучшее с ними случилось на русском языке. Там, где сильны чувства, разум слаб. Я предельно ясно понимаю, что, будь украинское правительство гибче в языковом вопросе, у Путина было бы чуть меньше шансов положить полуостров в свой взбесившийся карман. Но едва ли это бы что-то кардинально изменило. Сладким антиукраинским ядом крымчан кормили долго и умело.
Татарский посёлок
Наш симферопольский дом в лихих девяностых помогали строить крымские татары. Папа — в ту пору высокопоставленный чиновник — оказался причастен к кампании возвращения коренного населения в Крым и горячо приветствовал это движение. Был непопулярен в среде правительственной элиты, регулярно выгребал на совещаниях, а после них пил с вновь прибывшими водку. Закусывали салом. «Аллаху угодно?» — веселился папа. «Татарин без земли — не татарин, а бомж. Так что мне сейчас можно», — зубоскалил в ответ рыжий синеглазый Джамиль.
Он построил фундамент нашего дома на горе. Вокруг со временем разросся первый в Крыму татарский посёлок. Самозахваты стояли на оползнях, на пустыре, где что бы то ни было строить никто не решался. Где всегда ветрено и с балконов вторых этажей можно разглядеть синюю полоску моря. Как и всё в этом лучшем из возможных миров, наши дома ползут вниз и идут трещинами. Абсолютно независимо от национальности.
Учительница Мирьям с чебуреками и вручную смолотым кофе. Бабушка Фатима с сушёным кишмишем в пиалах. Писательница Гуля с вызовом традиционным ценностям своего народа — никакого замужества, только творческий труд. Первый, тоже построенный рыжим Джамилем, этаж нашего дома регулярно становился пристанищем для приехавших из Узбекистана «бомжей». И только сейчас я понимаю, почему отца так сильно задевала история другого, чужого ему «племени».
Он знал, каково это, жить и работать на земле, которую не любишь. И как нужно жить и работать, чтобы эту землю до исступления полюбили твои дети и внуки. Засеянный украинцами и напоенный днепровской водой Крым мы воспели в стихах и отдали московскому дядьке. В июле 2015-го с папиными внуками — россиянами я буду пить домашнее вино в фамильном саду.
Оба моих племянника получили российские повестки в военкомат. При этом факт присутствия их войск в Донбассе подвергают сомнению. Меня мучает боль в теле и раздрай в душе. Я хочу сформулировать для себя что-то категоричное, вроде «история неумолима». Или «жизнь несправедлива». Но ничего, кроме тютчевского: «Нам не дано предугадать», в винную голову так и не придёт.
Он построил фундамент нашего дома на горе. Вокруг со временем разросся первый в Крыму татарский посёлок. Самозахваты стояли на оползнях, на пустыре, где что бы то ни было строить никто не решался. Где всегда ветрено и с балконов вторых этажей можно разглядеть синюю полоску моря. Как и всё в этом лучшем из возможных миров, наши дома ползут вниз и идут трещинами. Абсолютно независимо от национальности.
Учительница Мирьям с чебуреками и вручную смолотым кофе. Бабушка Фатима с сушёным кишмишем в пиалах. Писательница Гуля с вызовом традиционным ценностям своего народа — никакого замужества, только творческий труд. Первый, тоже построенный рыжим Джамилем, этаж нашего дома регулярно становился пристанищем для приехавших из Узбекистана «бомжей». И только сейчас я понимаю, почему отца так сильно задевала история другого, чужого ему «племени».
Он знал, каково это, жить и работать на земле, которую не любишь. И как нужно жить и работать, чтобы эту землю до исступления полюбили твои дети и внуки. Засеянный украинцами и напоенный днепровской водой Крым мы воспели в стихах и отдали московскому дядьке. В июле 2015-го с папиными внуками — россиянами я буду пить домашнее вино в фамильном саду.
Оба моих племянника получили российские повестки в военкомат. При этом факт присутствия их войск в Донбассе подвергают сомнению. Меня мучает боль в теле и раздрай в душе. Я хочу сформулировать для себя что-то категоричное, вроде «история неумолима». Или «жизнь несправедлива». Но ничего, кроме тютчевского: «Нам не дано предугадать», в винную голову так и не придёт.
Юрий Мешков, первый и последний президент Республики Крым (4 февраля 1994 — 17 марта 1995)
Мешков, мешочники
и что из этого вышло
Старик. Перекошенное лицо. Тело, согнутое, как дерево на ветру. Он тянет левую часть парализованного туловища, опираясь на трость и мою руку. Так он ходит и живёт седьмой год. Врачи после обширного инсульта, осложнённого тяжёлой болезнью сердца, давали пару месяцев под капельницами. Никто не понимает, как он ходит. И как живёт.
Это мой отец. Недавно — могучий жизнелюб и оголтелый трудоголик. Невыносимо прямой в высказываниях. Фанатично честный. Таких делают для ясной жизни, тяжёлой работы, прозрачной водки и жареной картошки. В смутные времена, когда врут, убивают на площадях и пьют разноцветное под сыр с плесенью, они взрываются. Папа взорвался в 1995-м.
Во время встречи на природе с первым и последним президентом Республики Крым Юрием Мешковым папа услышал вопрос: «Что с вами?» Не сразу понял, что обращаются к нему. С удивлением отметил, как его личный шофёр опрометью выскочил из служебной волги. Сорвал с шефа пиджак и галстук, расстегнул рубашку. Массаж сердца, растирание всего тела. Восемь часов подряд, пока не приехала скорая. Повезло. В те годы она приезжала не ко всем — не хватало бензина.
Совершенно неприспособленный к интригам, 1993-й и 1994-й мой отец прожил в кошмаре. Два претендента на трон крымского царя новых времён — просоветский Николай Багров и пророссийский Юрий Мешков видели в нём конкурента. После триумфальной победы на выборах Мешков завязал с темой морального уничтожения соперников и предложил отцу пост личного помощника. Папа считал нового главу полуострова пустомелей и пройдохой. В ответ на предложение предпочёл инсульт.
В августе 2015-го известный украинский социолог Евгений Головаха скажет в интервью: «Не Майдан виноват в том, что Россия напала на Украину. Россия сделала бы это всё равно при любом удобном случае. Да они и пытались: давайте вспомним Крым 1993-го, давайте вспомним Мешкова».
Я не забуду Мешкова никогда. Как и свою тогдашнюю уверенность: у отца развивается паранойя. О том, что Россия будет пытаться раздавить Украину согласно долгосрочному плану, он волновался до конца своих дней.
Это мой отец. Недавно — могучий жизнелюб и оголтелый трудоголик. Невыносимо прямой в высказываниях. Фанатично честный. Таких делают для ясной жизни, тяжёлой работы, прозрачной водки и жареной картошки. В смутные времена, когда врут, убивают на площадях и пьют разноцветное под сыр с плесенью, они взрываются. Папа взорвался в 1995-м.
Во время встречи на природе с первым и последним президентом Республики Крым Юрием Мешковым папа услышал вопрос: «Что с вами?» Не сразу понял, что обращаются к нему. С удивлением отметил, как его личный шофёр опрометью выскочил из служебной волги. Сорвал с шефа пиджак и галстук, расстегнул рубашку. Массаж сердца, растирание всего тела. Восемь часов подряд, пока не приехала скорая. Повезло. В те годы она приезжала не ко всем — не хватало бензина.
Совершенно неприспособленный к интригам, 1993-й и 1994-й мой отец прожил в кошмаре. Два претендента на трон крымского царя новых времён — просоветский Николай Багров и пророссийский Юрий Мешков видели в нём конкурента. После триумфальной победы на выборах Мешков завязал с темой морального уничтожения соперников и предложил отцу пост личного помощника. Папа считал нового главу полуострова пустомелей и пройдохой. В ответ на предложение предпочёл инсульт.
В августе 2015-го известный украинский социолог Евгений Головаха скажет в интервью: «Не Майдан виноват в том, что Россия напала на Украину. Россия сделала бы это всё равно при любом удобном случае. Да они и пытались: давайте вспомним Крым 1993-го, давайте вспомним Мешкова».
Я не забуду Мешкова никогда. Как и свою тогдашнюю уверенность: у отца развивается паранойя. О том, что Россия будет пытаться раздавить Украину согласно долгосрочному плану, он волновался до конца своих дней.
Глаголом жечь
В девяностых я любила крымский кагор, болгарские сигареты, поэта Иосифа Бродского и бессонные ночи. Особенно на берегу моря, и чтобы последним троллейбусом Симферополь — Ялта. На южнобережных камнях и бесплатных тогда ещё топчанах под самым звёздным в мире небом, с силуэтом Аюдага по левую руку и пышными абрисами сталинских здравниц по правую, мы орали стихи и песни. Ещё не затасканная строка из Бродского: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря» звучала как гимн безоговорочному счастью. Я и мои друзья, юные дарования с творческими перспективами, ликовали.
Нам нравился импортный аромат окружающего беспредела. Привкус хемингуэевского отчаяния в изменившемся образе жизни. Мы воспринимали бандитские перестрелки на улицах как ещё одну серию фильма «Однажды в Америке». Мы думали, что финиш СССР — это конец сартровой тошноты и начало бердяевской свободы. И, конечно, книжные развалы с горами другой, ещё недавно запрещённой литературы. Мы хотели, чтобы любимый Питер не был заграницей. А наше «славное язычество» — рок-н-ролл стал легитимной формой самовыражения. Мы не понимали, что это его убьёт.
Своими гитарами наперевес, дурными голосами и необузданной волей в 1994-м мы выбрали следователя прокуратуры Мешкова нашим командиром. Затея тогда провалилась: Крым остался украинским, президент бежал. Говорят, как Керенский, в женском платье и парике. Но мы уже включили на полуострове имперский маяк, осветивший путь зелёным человечкам в 2014-м. Собственными усилиями я приблизила июль 2015-го, когда, изнывая от жары и тотального абсурда, буду пробираться на малую родину.
Нам нравился импортный аромат окружающего беспредела. Привкус хемингуэевского отчаяния в изменившемся образе жизни. Мы воспринимали бандитские перестрелки на улицах как ещё одну серию фильма «Однажды в Америке». Мы думали, что финиш СССР — это конец сартровой тошноты и начало бердяевской свободы. И, конечно, книжные развалы с горами другой, ещё недавно запрещённой литературы. Мы хотели, чтобы любимый Питер не был заграницей. А наше «славное язычество» — рок-н-ролл стал легитимной формой самовыражения. Мы не понимали, что это его убьёт.
Своими гитарами наперевес, дурными голосами и необузданной волей в 1994-м мы выбрали следователя прокуратуры Мешкова нашим командиром. Затея тогда провалилась: Крым остался украинским, президент бежал. Говорят, как Керенский, в женском платье и парике. Но мы уже включили на полуострове имперский маяк, осветивший путь зелёным человечкам в 2014-м. Собственными усилиями я приблизила июль 2015-го, когда, изнывая от жары и тотального абсурда, буду пробираться на малую родину.
Солёное озеро
Когда я наконец-то увижу маму, она будет жаловаться. Прежде всего на то, что сторонники Украины уезжают из Крыма. Что государство не оказывает поддержки тем, кто остаётся. Что на оккупированную землю не едут отдыхающие из нашей страны. Рассказывает, как они с соседкой поют по вечерам «Плине кача» и плачут о погибших. Она носит с собой распечатанный на принтере снимок Олега Сенцова и молится за него.
В июле 2015-го мы сидим в беседке во дворе нашей дачи под Евпаторией. Перед смертью папа успел организовать покупку участка земли возле солёного озера Донузлав. Обошлось в копейки — в этой местности земля, питьевая вода и воздух тоже с привкусом слёз. Разогнав комариные тучи и выкорчевав горы колючей степной травы, мы с мамой и братом общими усилиями построили летний домик.
«Ты видела мои цветы? — смахнув слёзы, щебечет мама. — А виноград? Скоро созреет, приезжай в сентябре». Мы не виделись два года. Начиная с марта 2013-го я буду регулярно покупать и сдавать билеты в Крым. Накануне каждой поездки происходит что-то ужасное. Март 2014-го — без комментариев. 20 мая — закрытие авиасообщения между Украиной и полуостровом. 17 июля — дождь из мёртвых детей сбитого Boeing 777. 26 декабря — отмена поездов. Дальше — болезни, болезни, болезни. Мне и сейчас невыносимо больно. Давняя хворь, не дававшая о себе знать годы, берёт реванш.
Пытаюсь скрыть это от мамы. Виноград действительно заплёл всю беседку. Здесь ещё растут плющ, маки, невзрачные мелкие цветочки и кривые степные сливы. Остальное надо выращивать, вступая в отчаянный бой с засухой и солончаками. У мамы — клумба с розами и любимыми мальвами. Груши с блестящими, как ёлочные украшения, плодами. Глянцевые яблоки. И невозможные в здешнем климате бархатные персики.
Поднимая пыльный смерч, по степной дороге мчится автомобиль. Резко тормозит возле дома, пассажиры высыпаются из машины и смотрят на клумбу. Обычное дело: мамин оазис воспринимают как мираж.
В июле 2015-го мы сидим в беседке во дворе нашей дачи под Евпаторией. Перед смертью папа успел организовать покупку участка земли возле солёного озера Донузлав. Обошлось в копейки — в этой местности земля, питьевая вода и воздух тоже с привкусом слёз. Разогнав комариные тучи и выкорчевав горы колючей степной травы, мы с мамой и братом общими усилиями построили летний домик.
«Ты видела мои цветы? — смахнув слёзы, щебечет мама. — А виноград? Скоро созреет, приезжай в сентябре». Мы не виделись два года. Начиная с марта 2013-го я буду регулярно покупать и сдавать билеты в Крым. Накануне каждой поездки происходит что-то ужасное. Март 2014-го — без комментариев. 20 мая — закрытие авиасообщения между Украиной и полуостровом. 17 июля — дождь из мёртвых детей сбитого Boeing 777. 26 декабря — отмена поездов. Дальше — болезни, болезни, болезни. Мне и сейчас невыносимо больно. Давняя хворь, не дававшая о себе знать годы, берёт реванш.
Пытаюсь скрыть это от мамы. Виноград действительно заплёл всю беседку. Здесь ещё растут плющ, маки, невзрачные мелкие цветочки и кривые степные сливы. Остальное надо выращивать, вступая в отчаянный бой с засухой и солончаками. У мамы — клумба с розами и любимыми мальвами. Груши с блестящими, как ёлочные украшения, плодами. Глянцевые яблоки. И невозможные в здешнем климате бархатные персики.
Поднимая пыльный смерч, по степной дороге мчится автомобиль. Резко тормозит возле дома, пассажиры высыпаются из машины и смотрят на клумбу. Обычное дело: мамин оазис воспринимают как мираж.
МОЯ СЕМЬЯ
Слева направо: мама, папа с моим братом на руках, бабушка, 1963 год
Слева направо: мама, папа с моим братом на руках, бабушка, 1963 год
От Хрущёва до заката
Ей не привыкать превращать пыль в чернозёмы. Именно для этого их с папой отправили в Крым в 1960-м после окончания сельхозинститута в Полтаве. Они оба родом из Черниговской области, где цветёт и плодоносит, по маминым словам, даже сухая палка, воткнутая в землю. Пару молодых специалистов определили в посёлок Щёлкино Ленинского района, с теми же солончаками и засухой.
Там родился мой брат, переживший в детстве тяжёлый случай нарушения обмена веществ. Его основным блюдом в рационе была сушёная рыба. Для мамы этот период вылился в истощение, туберкулёз и разлуку с грудным ребёнком.
«Ты думаешь, в 1954-м Хрущёв сделал большой подарок Украине, отдав Крым? — риторически вопрошает мама. — Это был не подарок, а умирающий котёнок, подкинутый в зажиточный двор. Здесь не было ни яблочка, ни огурчика, ни картошечки. Всё это выращивать в солёной земле умели только татары. Их выселили. Работать было некому».
Мама говорит о том, что русский по национальности Никита Сергеевич прекрасно понимал, что превратить Крым в территорию, пригодную для жизни, могут только украинцы. Что в ментальности россиян нет любви к работе на земле. Что их удел — просторы, горизонты и война. «Носом в землю. Не разгибая спины. Сорок лет, как евреи по пустыне. Мы приезжали сюда тысячами и пахали, как рабы», — вспоминает мама. «Рабы сделали своё дело. Рабы могут уходить», — мысленно закрываю гештальт я.
И если кто-то ещё раз скажет мне: «Крым всегда был российским», то быстро пойдёт выяснять историческую правду у моего брата. Или у крымских врачей, регулярно вытаскивавших моих родителей с того света для новых трудовых подвигов.
Там родился мой брат, переживший в детстве тяжёлый случай нарушения обмена веществ. Его основным блюдом в рационе была сушёная рыба. Для мамы этот период вылился в истощение, туберкулёз и разлуку с грудным ребёнком.
«Ты думаешь, в 1954-м Хрущёв сделал большой подарок Украине, отдав Крым? — риторически вопрошает мама. — Это был не подарок, а умирающий котёнок, подкинутый в зажиточный двор. Здесь не было ни яблочка, ни огурчика, ни картошечки. Всё это выращивать в солёной земле умели только татары. Их выселили. Работать было некому».
Мама говорит о том, что русский по национальности Никита Сергеевич прекрасно понимал, что превратить Крым в территорию, пригодную для жизни, могут только украинцы. Что в ментальности россиян нет любви к работе на земле. Что их удел — просторы, горизонты и война. «Носом в землю. Не разгибая спины. Сорок лет, как евреи по пустыне. Мы приезжали сюда тысячами и пахали, как рабы», — вспоминает мама. «Рабы сделали своё дело. Рабы могут уходить», — мысленно закрываю гештальт я.
И если кто-то ещё раз скажет мне: «Крым всегда был российским», то быстро пойдёт выяснять историческую правду у моего брата. Или у крымских врачей, регулярно вытаскивавших моих родителей с того света для новых трудовых подвигов.
Чужой среди своих
Впервые я забаню человека в августе 2015-го. Это будет тот самый старый друг, взывавший к моей метафизике и отрицавший мою генетику. Он оставит коммент под новостями о приговоре Сенцову и Кольченко: «В тюрьме тоже режиссёры нужны. Для самодеятельности». Этого я не выдержу. Я не заеду к нему в июле, чувствуя, что ничего хорошего из этого не выйдет. Обойду стороной ещё три дорогих мне дома, в одном из которых пишет стихи и любит Россию большой русский поэт. Его выбор — единственный, который я смогу внятно себе объяснить.
Я за полгода так и не найду возможности связаться в Skype с гражданином США и бывшим русским философом, когда-то значившим для меня бесконечно много. Я знаю, о чём он спросит. И что я отвечу. Я зайду только к одному человеку, с которым у нас есть опыт 2004-го, пережитого по разные стороны баррикад. После пары разговоров об Оранжевой революции и моём там месте мы не общались два года.
Мы стали умнее и осторожнее. Мы говорим о жизни и о музыке, тщательно обходя горячие точки актуальных тем. У нас получается, пока она не берёт в руки гитару. «Вот, новую песенку написала, послушай. Грустная. О войне». Фраза «своих жалко» вырывается из неё сама собой и звучит, как выстрел в упор. После паузы, похожей на маленькую смерть, становится ясно: осечка.
Мы выходим на улицу и до рассвета задаём друг другу вопросы. Пытаемся на них отвечать. Постоянно кому-то из нас нечем крыть и нечего сказать. К утру мы соглашаемся в одном: наш выбор — это вопрос веры. Люди по обе стороны границы готовы терпеть, быть готовыми к худшему и надеться на лучшее, замечать победы и прощать поражения не потому, что ослепли и оглохли. А потому что верят в своё решение. Если пациент верит в то, что здоров, аргументы бессильны.
Я за полгода так и не найду возможности связаться в Skype с гражданином США и бывшим русским философом, когда-то значившим для меня бесконечно много. Я знаю, о чём он спросит. И что я отвечу. Я зайду только к одному человеку, с которым у нас есть опыт 2004-го, пережитого по разные стороны баррикад. После пары разговоров об Оранжевой революции и моём там месте мы не общались два года.
Мы стали умнее и осторожнее. Мы говорим о жизни и о музыке, тщательно обходя горячие точки актуальных тем. У нас получается, пока она не берёт в руки гитару. «Вот, новую песенку написала, послушай. Грустная. О войне». Фраза «своих жалко» вырывается из неё сама собой и звучит, как выстрел в упор. После паузы, похожей на маленькую смерть, становится ясно: осечка.
Мы выходим на улицу и до рассвета задаём друг другу вопросы. Пытаемся на них отвечать. Постоянно кому-то из нас нечем крыть и нечего сказать. К утру мы соглашаемся в одном: наш выбор — это вопрос веры. Люди по обе стороны границы готовы терпеть, быть готовыми к худшему и надеться на лучшее, замечать победы и прощать поражения не потому, что ослепли и оглохли. А потому что верят в своё решение. Если пациент верит в то, что здоров, аргументы бессильны.
Золото Джамиля
Шевелюра Джамиля теперь напоминает не огонь, а золото с платиной. Он постарел, но не утратил элегантной худобы и молодой искры в глазах. Наливает в пиалу зелёный чай. Когда-то такое угощение довело меня до обморока — уж очень крепкой оказалась заварка. Джамиль называл меня тургеневской девушкой. Теперь с порога окрестил «сепаратисткой».
Жалуется, что Россия узаконила самозахваты и тем самым вбила ещё один клин между народами Крыма: «Все ваши говорят, что бандитам дали амнистию». Рассказывает о том, что на полуострове неспокойно. Общаться на татарском и украинском языках опасно даже на рынке. Давняя история — напряжённые отношения между коренным населением и всеми остальными жителями Тавриды — выходит на новые орбиты. «Никому не нужно единство, — вздыхает Джамиль. — Только золотые дожди». Вспоминаем папу, которому нужны были другие дожди. И единство.
Годы после инсульта отец провёл в молчании и чтении. Болезнь повредила всё, кроме разума и речи. Ключевский, Кулиш, «История УПА», десятки биографий полководцев и политических деятелей. Неожиданно — Библия, Коран, самоучитель крымскотатарского. «А это зачем?» — интересуюсь с нескрываемым удивлением. «Баш балабан аклёк», — последовал ответ с выразительным постукиванием пальцем здоровой руки по моему лбу. В 2015-м я спрошу у Джамиля, что значит эта фраза. «Голова большая, а ума нет», — с готовностью переведёт он.
Жалуется, что Россия узаконила самозахваты и тем самым вбила ещё один клин между народами Крыма: «Все ваши говорят, что бандитам дали амнистию». Рассказывает о том, что на полуострове неспокойно. Общаться на татарском и украинском языках опасно даже на рынке. Давняя история — напряжённые отношения между коренным населением и всеми остальными жителями Тавриды — выходит на новые орбиты. «Никому не нужно единство, — вздыхает Джамиль. — Только золотые дожди». Вспоминаем папу, которому нужны были другие дожди. И единство.
Годы после инсульта отец провёл в молчании и чтении. Болезнь повредила всё, кроме разума и речи. Ключевский, Кулиш, «История УПА», десятки биографий полководцев и политических деятелей. Неожиданно — Библия, Коран, самоучитель крымскотатарского. «А это зачем?» — интересуюсь с нескрываемым удивлением. «Баш балабан аклёк», — последовал ответ с выразительным постукиванием пальцем здоровой руки по моему лбу. В 2015-м я спрошу у Джамиля, что значит эта фраза. «Голова большая, а ума нет», — с готовностью переведёт он.
Возвращение
Я возвращаюсь из Крыма в Украину в знаменательный день. 16 июля 2015-го — 11 лет моего ПМЖ за пределами полуострова. Я ни разу не пожалела о своём выборе между Симферополем, Киевом и Москвой. И много раз пеняла моей новой столице за отсутствие живописных гор, морской воды и степных ветров.
В августе 2014-го гениальный русский поэт Алексей Цветков скажет простую и понятную фразу: «Пока ты не станешь любить землю, на которой живёшь, толку от неё не будет». После расстрела Майдана до меня в полной мере дойдёт смысл этих слов. В том, что случилось с Украиной и Крымом, есть мой ощутимый личный вклад. У меня отняли малую родину, чтобы я научилась любить большую. У меня есть ещё один шанс вспомнить о том, что любовь — это действие. А иногда и усилие.
Вернувшись с полуострова, я так и не пойму, чей он. Мой, наш, их, Джамиля, мамин, папин, ничей. Нужное подчеркнуть? Ненужное вычеркнуть? Не знаю, отвезу ли я когда-нибудь свою дочь к бабушке на дачу, где она провела три лета своей пятилетней жизни. Смогу ли когда-нибудь войти в море, оставив за спиной вероломно украденный берег. Вопросы и границы пока что будут открыты.
Одуревая от боли, я буду пытаться поймать за хвост свой запредельный страх за тех, кто остался в Крыму. Попытки что-то сформулировать, принять и понять в конце концов приведут меня в больницу. Без крымского обострения в анамнезе не обойтись, рассказываю о нём молодому печальному врачу. «Доктор, это лечится?» — спрашиваю с надеждой. «Резать к чёртовой матери», — задумчиво произносит врач. «Вы крымский?» — «Донецкий».
В августе 2014-го гениальный русский поэт Алексей Цветков скажет простую и понятную фразу: «Пока ты не станешь любить землю, на которой живёшь, толку от неё не будет». После расстрела Майдана до меня в полной мере дойдёт смысл этих слов. В том, что случилось с Украиной и Крымом, есть мой ощутимый личный вклад. У меня отняли малую родину, чтобы я научилась любить большую. У меня есть ещё один шанс вспомнить о том, что любовь — это действие. А иногда и усилие.
Вернувшись с полуострова, я так и не пойму, чей он. Мой, наш, их, Джамиля, мамин, папин, ничей. Нужное подчеркнуть? Ненужное вычеркнуть? Не знаю, отвезу ли я когда-нибудь свою дочь к бабушке на дачу, где она провела три лета своей пятилетней жизни. Смогу ли когда-нибудь войти в море, оставив за спиной вероломно украденный берег. Вопросы и границы пока что будут открыты.
Одуревая от боли, я буду пытаться поймать за хвост свой запредельный страх за тех, кто остался в Крыму. Попытки что-то сформулировать, принять и понять в конце концов приведут меня в больницу. Без крымского обострения в анамнезе не обойтись, рассказываю о нём молодому печальному врачу. «Доктор, это лечится?» — спрашиваю с надеждой. «Резать к чёртовой матери», — задумчиво произносит врач. «Вы крымский?» — «Донецкий».
Век воли
После операции у меня будет много времени, свободного от обычных забот. Российский кинокритик Антон Долин поможет понять, чего именно я, гражданин воюющего государства, так отчаянно боюсь, вспоминая о людях в раскрашенном Крыму. «Опасна и пуста любая придуманная реальность», — пишет Долин в статье «Процесс. Приговор Олегу Сенцову: уже не кино». И, рассуждая об идеологических иллюзиях, придуманных мирах и показательных судилищах, добавляет в финале: «Отправленный в колонию строгого режима на двадцать лет Сенцов на самом деле свободен. Это нам всем здесь век свободы не видать».
Я очень хочу, чтобы крымчане, независимо от своего выбора, видали волю. И уважали мою. На этом я буду настаивать. Я не хочу думать о том, что сами себя они привели в пасть кадавра, занятого исключительно своей булимией. У него нет потребности в движении и внятных целей, но пока ещё он способен раздуваться, заслоняя собой горизонт. Надеюсь, хоть кто-то успеет отскочить, когда оно рванёт.
У меня полно срочных дел. Мне нужно оставить украинскому правительству заботу держать доллар и взять в свои руки что-нибудь другое. Например, свою жизнь, свои чувства и свои дела. Прояснить актуальную ситуацию Оли — севастопольской подруги, которой мы с моими киевскими друзьями общими усилиями не дали умереть зимой 2014-го. Присоединение Крыма к России предоставило подруге шанс прожить ещё несколько лет после операции по пересадке лёгких. В Украине это пока не освоили. Если у Оли всё получится, пожалуй, жуткий макияж российской офицерши на границе я вычеркну из списка личных претензий к кадавру.
Мне надо осваивать новую жизнь, замешанную на вере в людей и чувстве локтя. Нужно учиться общаться там, где я привыкла молча отворачиваться. Пробовать на язык новый зуб своей любви к родине — не шатается ли? Не прогнил? Не пустил ли вместо корня костяную ногу? И, наконец, устроить обещанный Володе Рафеенко пикник. Когда мы соберёмся, кто-то обязательно скажет: «Надо купить уголь и воду». «Уголь?» — встрепенётся Володя. «Воду?» — забеспокоюсь я.
Мы будем хохотать и плакать, валяться в траве, даже если это будет зима. Смотреть на верхушки сосен, даже если это будет потолок квартиры. Мы не будем думать о том, как жить. Мы живём — что как минимум повод для встречи и диалога.
Я очень хочу, чтобы крымчане, независимо от своего выбора, видали волю. И уважали мою. На этом я буду настаивать. Я не хочу думать о том, что сами себя они привели в пасть кадавра, занятого исключительно своей булимией. У него нет потребности в движении и внятных целей, но пока ещё он способен раздуваться, заслоняя собой горизонт. Надеюсь, хоть кто-то успеет отскочить, когда оно рванёт.
У меня полно срочных дел. Мне нужно оставить украинскому правительству заботу держать доллар и взять в свои руки что-нибудь другое. Например, свою жизнь, свои чувства и свои дела. Прояснить актуальную ситуацию Оли — севастопольской подруги, которой мы с моими киевскими друзьями общими усилиями не дали умереть зимой 2014-го. Присоединение Крыма к России предоставило подруге шанс прожить ещё несколько лет после операции по пересадке лёгких. В Украине это пока не освоили. Если у Оли всё получится, пожалуй, жуткий макияж российской офицерши на границе я вычеркну из списка личных претензий к кадавру.
Мне надо осваивать новую жизнь, замешанную на вере в людей и чувстве локтя. Нужно учиться общаться там, где я привыкла молча отворачиваться. Пробовать на язык новый зуб своей любви к родине — не шатается ли? Не прогнил? Не пустил ли вместо корня костяную ногу? И, наконец, устроить обещанный Володе Рафеенко пикник. Когда мы соберёмся, кто-то обязательно скажет: «Надо купить уголь и воду». «Уголь?» — встрепенётся Володя. «Воду?» — забеспокоюсь я.
Мы будем хохотать и плакать, валяться в траве, даже если это будет зима. Смотреть на верхушки сосен, даже если это будет потолок квартиры. Мы не будем думать о том, как жить. Мы живём — что как минимум повод для встречи и диалога.
Фото: Getty Images, Укринформ, Алексей Батурин, из личных архивов
