Дневник
Мой друг Бенджамен
Как корабль философов плыл из Донецка в Киев. История писателя, издателя и одной галлюцинации
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрём.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег»
Александр Пушкин
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрём.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег»
Александр Пушкин
Я человек не общительный, но и у меня в Донецке был свой «малый круг». Иногда он становился чуть больше, иногда сужался до трёх-пяти человек. Помнится, на грани распада, когда до массового захода в город боевиков оставались считаные недели, мы, человек пять-семь, как-то вечером собрались вместе. Говорили, пытались понять, куда несёт нас рок событий.
В те дни местная власть сливала город сепаратистам, вооружённые бандиты и милиция сообща «патрулировали» город. Центростремительно, как ужас во время падения, усиливалось ощущение черноты, в которую валится настоящее, прошлое и будущее. Мы не понимали, что происходит, почему в Донецк не входят регулярные войска, зачем наши силовики позволяют отморозкам занимать административные здания в центре города, избивать и убивать украинских активистов. Эти разговоры нам не помогли ничем. Никого из тех, кто тогда сидел со мной за одним столом, в Донецке больше нет.
Когда через полтора месяца я сам покидал город, жара стояла неимоверная, и один из последних поездов Донецк — Киев, который отбывал со станции «Донецк-Пассажирский», был переполнен. Люди боялись ехать, боялись оставаться. По перрону расхаживали новые хозяева жизни — боевики с автоматами.
Нам свойственно искать в прошлом точки невозврата, когда всё могло измениться к лучшему, но скатилось к чертям собачьим. Иногда мне кажется, что такая точка была пройдена всеми нами не в то утро, когда в Донецк вошли боевики, а тогда, когда город покинул мой друг Бенджамен.
В те дни местная власть сливала город сепаратистам, вооружённые бандиты и милиция сообща «патрулировали» город. Центростремительно, как ужас во время падения, усиливалось ощущение черноты, в которую валится настоящее, прошлое и будущее. Мы не понимали, что происходит, почему в Донецк не входят регулярные войска, зачем наши силовики позволяют отморозкам занимать административные здания в центре города, избивать и убивать украинских активистов. Эти разговоры нам не помогли ничем. Никого из тех, кто тогда сидел со мной за одним столом, в Донецке больше нет.
Когда через полтора месяца я сам покидал город, жара стояла неимоверная, и один из последних поездов Донецк — Киев, который отбывал со станции «Донецк-Пассажирский», был переполнен. Люди боялись ехать, боялись оставаться. По перрону расхаживали новые хозяева жизни — боевики с автоматами.
Нам свойственно искать в прошлом точки невозврата, когда всё могло измениться к лучшему, но скатилось к чертям собачьим. Иногда мне кажется, что такая точка была пройдена всеми нами не в то утро, когда в Донецк вошли боевики, а тогда, когда город покинул мой друг Бенджамен.
Эхо

Эхо
Стояла сырая киевская весна 2016 года. Вторая наша весна в качестве вынужденных переселенцев. Я и мой друг Бенджамен парились в сауне на Подоле, что возле храма Николы Доброго. А после, распаренные и благодушно настроенные, плелись во Фроловский монастырь за водой. Благо это в двух шагах. Солнце проглядывало робкое и пугливое, как заяц с похмелья. Оно косилось на нас, а мы на него. Мы так ждали тепла. Два года ждали того дня, когда нам всем, кто покинул свой родной город, станет тепло. Но в сущности так и не дождались. Донецк не освободили ни в августе-сентябре-октябре 2014 года, ни весной 2015-го, ни в один из последующих сезонов, месяцев, дней и ночей.
Я со своей семьёй снимал квартиру. Бенджамен со своей тоже. Мы снимали квартиры, а значит, отчаянно нуждались в деньгах, работе, подработках. Были в долгах как в шелках. Поход в сауну для нас — что-то вроде мотовства, граничащего с безумством. В этом городе деньги давались нам непросто. Мне шёл сорок седьмой год, моему другу — шестьдесят девятый. Конечно, у него имелась пенсия, но её ни на аренду квартиры, ни на питание семьи из трёх человек не хватало. Но знаете, за что я уважаю его больше всего? За всегдашнюю улыбку. Что бы ни случилось, мой Бенджамен всегда улыбался. В нём эта улыбка жила, как над летней рекой в раннее утро живёт неясный рассеянный свет. Свет в этом человеке пребывал естественно и просто, принуждая всех нас, его знакомых и друзей, к внутренней культуре беспричинной радости.
Бенджамен — еврей. Во-первых, в том смысле, что похож на еврея. А во-вторых, его мама и папа, которых я хорошо знал, действительно были евреями. Классическими, как говорится: умными, весёлыми, замечательными людьми, прожившими нелёгкую жизнь в стране победившего пролетариата. Вся его семья была как раз из тех самых евреев, которые с незапамятных времён проживали в еврейском посёлке, раскинувшемся по обе стороны Кальмиуса. С течением времени и в ходе технического прогресса посёлок стал одним из центральных районов Юзовки. Шли годы, Юзовка превратилась в город Сталино, который затем переименовали в Донецк.
Маленький двухэтажный «гарнизонный» дом являл образец совершенно несоветской застройки города. Потолки квартиры Бенджамена приятно поражали высотой. Сейчас по памяти я улавливаю то, что тогда не воспринималось на уровне рефлексии. В этой квартире всегда звучало неслышимое эхо. Оно исходило от картин на стенах, от книг огромной библиотеки, от пожелтевших клавиш старенького пианино. Старыми фокстротами и танго пробивалось из довоенных фотографий. Густым папиросным дымом и горьким язвительным смехом гремело в рассказах его отца. Проглядывало во вкрадчивых улыбках матери.
Некая коллективная память пропитала старый дом, как мацу, брошенную в бокал с сухим красным вином. Это эхо, по сути, было отголоском свободы, некогда помогавшей здешним жильцам играть как в злые, так и в добрые игры нашего мира и выходить из них живыми. Я уверен, что эхо осталось там и поныне, что оно пребудет там всегда. Неслышимое эхо поёт в ночи старые песни, раскачивая дом, плывущий по волнам времени. Оно останется, даже если эти комнаты займут чужие люди. Даже если в дом попадёт шальной снаряд. Даже если мы об этом знать не будем. Даже если не будет нас.
Именно здесь, насколько я помню, Бенджамен делал свои самые важные проекты, верстал разнообразные и неожиданные книги. Сочинения Августина Блаженного и Плотина, стихотворные сборники местных поэтов, мои первые новеллы, литературоведческие дайджесты Донецкого национального университета, фольклорные работы Екатерины Грушевской, тома Драгоманова, отчёты фольклорной экспедиции, которую возглавлял Чубинский, исследования по фольклору профессора Степана Мышаныча, газеты и рекламные листки. Под окном, выходящим на трамвайные пути, он создавал единственный в городе украинский журнал «Кальмиус». А также литературно-художественный альманах «Многоточие» — пожалуй, самое достойное русскоязычное издание из всех, на которые сподобился наш город за всё время своего существования.
По правде говоря, Бенджамен периодически съезжал из своего родового гнезда на иные квартиры. Но где бы он ни обитал, его жилище всегда становилось тем местом, где встречались писатели и поэты, пишущие и говорящие на разных языках. Люди эти часто не ладили между собой, но каждый из них при этом совершенно искренне считал Бенджамена своим другом. Мы собирались на кухне, говорили и пили вино. Пели песни на украинском, русском, немецком, белорусском языках. Спорили, горячились, ругались насмерть и снова встречались на орбитах, пролегающих в зоне притяжения этого человека. Так что, трезво рассуждая, в предвоенном Донецке столицей Украины был дом Бенджамена. Иногда я думаю, что именно в нём сформировались предпосылки этой войны, нашего с ним сиротства, данного для прозрения некоторых, для вразумления многих, для формирования политической нации и для всего того, что стало нашей жизнью годы спустя.
У ворот Фроловского монастыря Бенджамен остановился и, глядя куда-то вверх, сообщил невидимому собеседнику:
— Сегодняшнего Донецка для меня не существует…
Повернувшись ко мне, продолжил:
— На его месте в моей душе — большое белое пятно. Тот Донецк, в котором я жил, остался теперь только в моей памяти. Знаешь, точно так же, как Юзовка, например, оставалась только в памяти моей бабушки и других стариков.
И, подумав, добавил:
— А ещё мой город живёт в фотоснимках.
Я со своей семьёй снимал квартиру. Бенджамен со своей тоже. Мы снимали квартиры, а значит, отчаянно нуждались в деньгах, работе, подработках. Были в долгах как в шелках. Поход в сауну для нас — что-то вроде мотовства, граничащего с безумством. В этом городе деньги давались нам непросто. Мне шёл сорок седьмой год, моему другу — шестьдесят девятый. Конечно, у него имелась пенсия, но её ни на аренду квартиры, ни на питание семьи из трёх человек не хватало. Но знаете, за что я уважаю его больше всего? За всегдашнюю улыбку. Что бы ни случилось, мой Бенджамен всегда улыбался. В нём эта улыбка жила, как над летней рекой в раннее утро живёт неясный рассеянный свет. Свет в этом человеке пребывал естественно и просто, принуждая всех нас, его знакомых и друзей, к внутренней культуре беспричинной радости.
Бенджамен — еврей. Во-первых, в том смысле, что похож на еврея. А во-вторых, его мама и папа, которых я хорошо знал, действительно были евреями. Классическими, как говорится: умными, весёлыми, замечательными людьми, прожившими нелёгкую жизнь в стране победившего пролетариата. Вся его семья была как раз из тех самых евреев, которые с незапамятных времён проживали в еврейском посёлке, раскинувшемся по обе стороны Кальмиуса. С течением времени и в ходе технического прогресса посёлок стал одним из центральных районов Юзовки. Шли годы, Юзовка превратилась в город Сталино, который затем переименовали в Донецк.
Маленький двухэтажный «гарнизонный» дом являл образец совершенно несоветской застройки города. Потолки квартиры Бенджамена приятно поражали высотой. Сейчас по памяти я улавливаю то, что тогда не воспринималось на уровне рефлексии. В этой квартире всегда звучало неслышимое эхо. Оно исходило от картин на стенах, от книг огромной библиотеки, от пожелтевших клавиш старенького пианино. Старыми фокстротами и танго пробивалось из довоенных фотографий. Густым папиросным дымом и горьким язвительным смехом гремело в рассказах его отца. Проглядывало во вкрадчивых улыбках матери.
Некая коллективная память пропитала старый дом, как мацу, брошенную в бокал с сухим красным вином. Это эхо, по сути, было отголоском свободы, некогда помогавшей здешним жильцам играть как в злые, так и в добрые игры нашего мира и выходить из них живыми. Я уверен, что эхо осталось там и поныне, что оно пребудет там всегда. Неслышимое эхо поёт в ночи старые песни, раскачивая дом, плывущий по волнам времени. Оно останется, даже если эти комнаты займут чужие люди. Даже если в дом попадёт шальной снаряд. Даже если мы об этом знать не будем. Даже если не будет нас.
Именно здесь, насколько я помню, Бенджамен делал свои самые важные проекты, верстал разнообразные и неожиданные книги. Сочинения Августина Блаженного и Плотина, стихотворные сборники местных поэтов, мои первые новеллы, литературоведческие дайджесты Донецкого национального университета, фольклорные работы Екатерины Грушевской, тома Драгоманова, отчёты фольклорной экспедиции, которую возглавлял Чубинский, исследования по фольклору профессора Степана Мышаныча, газеты и рекламные листки. Под окном, выходящим на трамвайные пути, он создавал единственный в городе украинский журнал «Кальмиус». А также литературно-художественный альманах «Многоточие» — пожалуй, самое достойное русскоязычное издание из всех, на которые сподобился наш город за всё время своего существования.
По правде говоря, Бенджамен периодически съезжал из своего родового гнезда на иные квартиры. Но где бы он ни обитал, его жилище всегда становилось тем местом, где встречались писатели и поэты, пишущие и говорящие на разных языках. Люди эти часто не ладили между собой, но каждый из них при этом совершенно искренне считал Бенджамена своим другом. Мы собирались на кухне, говорили и пили вино. Пели песни на украинском, русском, немецком, белорусском языках. Спорили, горячились, ругались насмерть и снова встречались на орбитах, пролегающих в зоне притяжения этого человека. Так что, трезво рассуждая, в предвоенном Донецке столицей Украины был дом Бенджамена. Иногда я думаю, что именно в нём сформировались предпосылки этой войны, нашего с ним сиротства, данного для прозрения некоторых, для вразумления многих, для формирования политической нации и для всего того, что стало нашей жизнью годы спустя.
У ворот Фроловского монастыря Бенджамен остановился и, глядя куда-то вверх, сообщил невидимому собеседнику:
— Сегодняшнего Донецка для меня не существует…
Повернувшись ко мне, продолжил:
— На его месте в моей душе — большое белое пятно. Тот Донецк, в котором я жил, остался теперь только в моей памяти. Знаешь, точно так же, как Юзовка, например, оставалась только в памяти моей бабушки и других стариков.
И, подумав, добавил:
— А ещё мой город живёт в фотоснимках.
Бег

Бег
Надо сказать, Бенджамен — пламенный патриот Украины, «украинский фашист» в лучшем смысле этого слова. Последние годы писал стихи на украинском языке, много переводил на украинский с русского, испанского, английского. Кажется, ничего из переведённого так и не опубликовал. Ему было жизненно необходимо переводить любимые тексты на любимый, хотя и не родной для него язык. Он никак не мог «чисто заговорить» по-украински и по-детски огорчался этому.
Его жена и дочка тоже говорили в доме по-русски. Но так же, как и он, исповедовали украинскую идею. Во время Майдана, осенью, зимой, а потом и весной 2014 года его дочь, которая оканчивала филологическое отделение университета, сознательно и повсеместно, как в вузе, так и вне его, отстаивала свои убеждения. Уже тогда это было опасно. Впрочем, за безопасностью они как-то не гнались. Начиная с зимы, Бенджамен с семьёй упорно и методично посещали все митинги, организуемые украинскими активистами, выходя на них даже тогда, когда это было крайне рискованно.
Эти митинги представляли собой собрания людей по 20–30 человек, собиравшихся у памятника Тарасу Шевченко в центре Донецка. Их гнала милиция, им угрожали «случайные» прохожие, их обливали зелёнкой, в них бросали камни и железные пруты. Ситуация развивалась. В городе всё чаще появлялись приезжие из РФ или «организованные на месте» пророссийски настроенные граждане. Заводилами у них, как правило, были бодрые энергичные молодчики, судя по выговору, также привезённые для этих дел издалека. Они «раскачивали» толпу, кричали в лицо Бенджамену, его жене и дочери, другим взрослым и детям, рискнувшим выйти к памятнику с нашим флагом: «Фашисты!»
А дети, заливаясь слезами от обиды, шока, от непонимания происходящего, кричали в ответ: «Мы вас любим!» Но, конечно, никакие признания в любви не помогли этим детям, влюблённым в свою родину, в ясность ума, в доброту и элементарную порядочность. Доброта не побеждает никогда. Счастье — абсурдно. Сильный — значит, правый. Свет — значит, тьма.
В Донецке к тому времени наступил чёрный театральный сезон — жизнь меняла свои декорации. Украинские флаги повсеместно срывались российскими гастролёрами и местными любителями «русского мира». Вообще уничтожалась любая символика, связанная с украинской государственностью. Я помню шок директора художественного музея Галины Чумак, когда с музейной таблички прикладами сбили украинский герб. Мы стояли у музея, в котором взрывной волной были выбиты все стёкла, и она показывала мне то на изуродованную табличку, то на орду, тусовавшуюся возле областной администрации.
Пришло время безумия. Сохранить ум было трудно просто оттого, что сознание не верило в происходящее. Оно отказывалось понять, как это возможно. По всему центру Донецка то там, то здесь расцветали русские триколоры. Помню сильно подгулявших людей, бредущих с русским флагом по бульвару Пушкина после очередного пророссийского митинга. Они производили потерянное впечатление, озирались на незнакомый им город, быстро вступающий в весенние сумерки, молча и лихорадочно вливали в себя из горлышка алкоголь, говорили о деньгах, полученных «за акцию».
С мая 2014-го дочь Бенджамена в университете начали травить. Называли фашисткой, выставили в Сети её фото с координатами и надписью: «Она сливает ДНР». Шла неприкрытая охота за проукраинскими активистами, и стало ясно, что нужно уезжать.
За пару месяцев до прихода в город Гиркина с его «отпускниками» и «ополченцами» Бенджамен с семьёй уехал, рассчитывая вернуться в самом скором времени, когда украинские военные возьмут город под свой контроль.
Он мне рассказывал потом, как они плакали от радости, увидев на вокзале Днепра украинские флаги, людей в вышиванках, услышав украинскую речь. Первоначально планировали ехать во Львов, потому что после Донецка хотелось оказаться там, где как можно меньше людей говорят по-русски и где никто не станет угрожать тебе за украинскую речь. Но так сложилось, что их принял Киев. В отличие, кстати, от множества других вынужденных переселенцев, бежавших от радостей «русского мира». Помогли добрые люди, на которых Бенджамену в жизни всё же везло гораздо больше, чем на плохих.
Его жена и дочка тоже говорили в доме по-русски. Но так же, как и он, исповедовали украинскую идею. Во время Майдана, осенью, зимой, а потом и весной 2014 года его дочь, которая оканчивала филологическое отделение университета, сознательно и повсеместно, как в вузе, так и вне его, отстаивала свои убеждения. Уже тогда это было опасно. Впрочем, за безопасностью они как-то не гнались. Начиная с зимы, Бенджамен с семьёй упорно и методично посещали все митинги, организуемые украинскими активистами, выходя на них даже тогда, когда это было крайне рискованно.
Эти митинги представляли собой собрания людей по 20–30 человек, собиравшихся у памятника Тарасу Шевченко в центре Донецка. Их гнала милиция, им угрожали «случайные» прохожие, их обливали зелёнкой, в них бросали камни и железные пруты. Ситуация развивалась. В городе всё чаще появлялись приезжие из РФ или «организованные на месте» пророссийски настроенные граждане. Заводилами у них, как правило, были бодрые энергичные молодчики, судя по выговору, также привезённые для этих дел издалека. Они «раскачивали» толпу, кричали в лицо Бенджамену, его жене и дочери, другим взрослым и детям, рискнувшим выйти к памятнику с нашим флагом: «Фашисты!»
А дети, заливаясь слезами от обиды, шока, от непонимания происходящего, кричали в ответ: «Мы вас любим!» Но, конечно, никакие признания в любви не помогли этим детям, влюблённым в свою родину, в ясность ума, в доброту и элементарную порядочность. Доброта не побеждает никогда. Счастье — абсурдно. Сильный — значит, правый. Свет — значит, тьма.
В Донецке к тому времени наступил чёрный театральный сезон — жизнь меняла свои декорации. Украинские флаги повсеместно срывались российскими гастролёрами и местными любителями «русского мира». Вообще уничтожалась любая символика, связанная с украинской государственностью. Я помню шок директора художественного музея Галины Чумак, когда с музейной таблички прикладами сбили украинский герб. Мы стояли у музея, в котором взрывной волной были выбиты все стёкла, и она показывала мне то на изуродованную табличку, то на орду, тусовавшуюся возле областной администрации.
Пришло время безумия. Сохранить ум было трудно просто оттого, что сознание не верило в происходящее. Оно отказывалось понять, как это возможно. По всему центру Донецка то там, то здесь расцветали русские триколоры. Помню сильно подгулявших людей, бредущих с русским флагом по бульвару Пушкина после очередного пророссийского митинга. Они производили потерянное впечатление, озирались на незнакомый им город, быстро вступающий в весенние сумерки, молча и лихорадочно вливали в себя из горлышка алкоголь, говорили о деньгах, полученных «за акцию».
С мая 2014-го дочь Бенджамена в университете начали травить. Называли фашисткой, выставили в Сети её фото с координатами и надписью: «Она сливает ДНР». Шла неприкрытая охота за проукраинскими активистами, и стало ясно, что нужно уезжать.
За пару месяцев до прихода в город Гиркина с его «отпускниками» и «ополченцами» Бенджамен с семьёй уехал, рассчитывая вернуться в самом скором времени, когда украинские военные возьмут город под свой контроль.
Он мне рассказывал потом, как они плакали от радости, увидев на вокзале Днепра украинские флаги, людей в вышиванках, услышав украинскую речь. Первоначально планировали ехать во Львов, потому что после Донецка хотелось оказаться там, где как можно меньше людей говорят по-русски и где никто не станет угрожать тебе за украинскую речь. Но так сложилось, что их принял Киев. В отличие, кстати, от множества других вынужденных переселенцев, бежавших от радостей «русского мира». Помогли добрые люди, на которых Бенджамену в жизни всё же везло гораздо больше, чем на плохих.
Путь
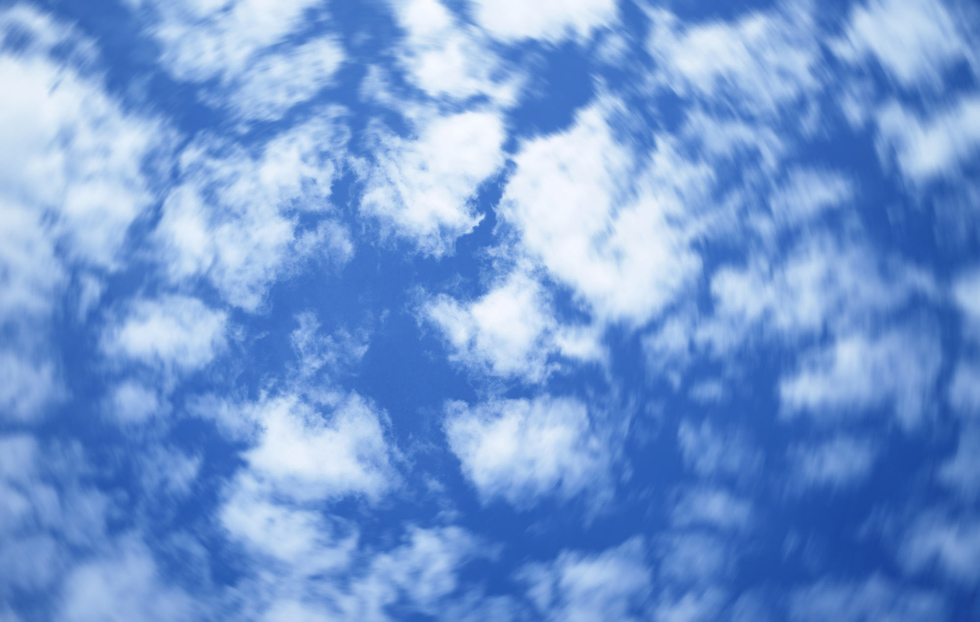
Путь
Подходя к фроловскому источнику и слушая Бенджамена, я думал о том, что на фоне генеральной интриги эпохи мы все выглядим тёплыми, но неясными. Такими приблизительно, как пятна, какие случаются от игры света и тени на монастырских аллеях. От слёз перед глазами, когда не видишь ничего ясно, когда всё сущее расплывается перед тобой, бывает такой же эффект. Наши частные судьбы именно таковы: мерцающие, случайные, мало кому интересные… Постоянно норовят расплыться, как свет в холодной воде, и не оставить следа. Ещё немного — и мы сами позабудем, какими были.
Но пока ещё остаётся память.
Когда-то, лет за десять до этой войны, я имел наглость считать себя русскоязычным (русским?) писателем и неплохим филологом. А потому мы с Бенджаменом в какой-то момент начали расходиться по причине его бескомпромиссной и яростной веры, какая бывает на первых порах у неофита, в независимость и великую судьбу украинской нации. И дело было не в нации, не в её судьбе и не в величии. Бросившись в какой-то момент жизни в объятия украинской идеи, мой друг страстно и искренне принялся критиковать, а затем даже ненавидеть определённые культурные коды только потому, что они коренились в русской культуре. Помнится, я страшно был поражён, когда Бенджамен сообщил новость: Пушкин — графоман. Причём, видно, это открытие самому ему не давало покоя, мучило немного, потому он решился сообщить мне его сразу, как только я распахнул дверь квартиры. Распахиваю, он нервно улыбается и выпаливает:
— Пушкин — графоман, вообще писать стихи не умеет!
— С чего это? — спросил я и посторонился.
— Да потому, — заявил Бенджамен, решительно входя в дом, — глупые стихи потому что. Ты почитай внимательно. А проза какая? Жиды у него, понимаешь, везде. Нет, совершенно точно графоман. А вот Тарас Шевченко — гений, и не хрен мне тут рассказывать.
— Беня, что вы такое говорите? — я сел на стул и ошеломлённо уставился на друга.
— Ой, только не надо мне рассказывать! — замахал он на меня руками.
— Я ничего никому не рассказываю, но, моя радость, Пушкин — величайший поэт, между прочим. Это даже Бенкендорф признавал.
— Ничтожный графоман! — Бенджамен достал из кармана платок и вытер лоб. — Пойдём пить пиво. А политика России — это политика сильного, но безмозглого животного, — добавил он, с вызовом глядя на меня.
— Ну, политика такое дело, — развёл я руками. — Не говоря уже о животных.
— Ты пиво идёшь пить? — сурово поинтересовался он.
И мы пошли. Буквально по кудрям белых дней. И они, эти дни, всё дальше уводили моего Бенджамена от меня. Наше некогда тесное общение стало эпизодическим. Мы постепенно отдалились и в человеческом смысле. Потому что я по-прежнему не был готов считать Пушкина графоманом, а Достоевского идиотом. Достоевский — такое дело, а вот за Пушкина мне было, конечно, немного обидно. «Пора мой друг пора, покоя сердце просит, идут за днями дни…» Или вот это: «Эй, смерть! Ты, право, сплутовала». — «Молчи! Ты глуп и молоденек. Уж не тебе меня ловить. Ведь мы играем не из денег, а только б вечность проводить!» Неплохо написано, согласитесь.
Но дело заключалось не в Пушкине, а в чём-то совсем другом, что нам всем тогда не давало покоя. Дымка какая-то витала в воздухе. И, честно говоря, во времена оные во мне тоже началась некоторая ревизия российских культурных ориентиров. Но проходила она так болезненно, так тяжело, отчасти даже невыносимо по причинам семейным, личным, что путь этот я должен был начать в одиночестве.
Но пока ещё остаётся память.
Когда-то, лет за десять до этой войны, я имел наглость считать себя русскоязычным (русским?) писателем и неплохим филологом. А потому мы с Бенджаменом в какой-то момент начали расходиться по причине его бескомпромиссной и яростной веры, какая бывает на первых порах у неофита, в независимость и великую судьбу украинской нации. И дело было не в нации, не в её судьбе и не в величии. Бросившись в какой-то момент жизни в объятия украинской идеи, мой друг страстно и искренне принялся критиковать, а затем даже ненавидеть определённые культурные коды только потому, что они коренились в русской культуре. Помнится, я страшно был поражён, когда Бенджамен сообщил новость: Пушкин — графоман. Причём, видно, это открытие самому ему не давало покоя, мучило немного, потому он решился сообщить мне его сразу, как только я распахнул дверь квартиры. Распахиваю, он нервно улыбается и выпаливает:
— Пушкин — графоман, вообще писать стихи не умеет!
— С чего это? — спросил я и посторонился.
— Да потому, — заявил Бенджамен, решительно входя в дом, — глупые стихи потому что. Ты почитай внимательно. А проза какая? Жиды у него, понимаешь, везде. Нет, совершенно точно графоман. А вот Тарас Шевченко — гений, и не хрен мне тут рассказывать.
— Беня, что вы такое говорите? — я сел на стул и ошеломлённо уставился на друга.
— Ой, только не надо мне рассказывать! — замахал он на меня руками.
— Я ничего никому не рассказываю, но, моя радость, Пушкин — величайший поэт, между прочим. Это даже Бенкендорф признавал.
— Ничтожный графоман! — Бенджамен достал из кармана платок и вытер лоб. — Пойдём пить пиво. А политика России — это политика сильного, но безмозглого животного, — добавил он, с вызовом глядя на меня.
— Ну, политика такое дело, — развёл я руками. — Не говоря уже о животных.
— Ты пиво идёшь пить? — сурово поинтересовался он.
И мы пошли. Буквально по кудрям белых дней. И они, эти дни, всё дальше уводили моего Бенджамена от меня. Наше некогда тесное общение стало эпизодическим. Мы постепенно отдалились и в человеческом смысле. Потому что я по-прежнему не был готов считать Пушкина графоманом, а Достоевского идиотом. Достоевский — такое дело, а вот за Пушкина мне было, конечно, немного обидно. «Пора мой друг пора, покоя сердце просит, идут за днями дни…» Или вот это: «Эй, смерть! Ты, право, сплутовала». — «Молчи! Ты глуп и молоденек. Уж не тебе меня ловить. Ведь мы играем не из денег, а только б вечность проводить!» Неплохо написано, согласитесь.
Но дело заключалось не в Пушкине, а в чём-то совсем другом, что нам всем тогда не давало покоя. Дымка какая-то витала в воздухе. И, честно говоря, во времена оные во мне тоже началась некоторая ревизия российских культурных ориентиров. Но проходила она так болезненно, так тяжело, отчасти даже невыносимо по причинам семейным, личным, что путь этот я должен был начать в одиночестве.
Боль

Боль
Говорить можно всё что угодно, а делать всё равно получается только то, во что веришь. Я думаю, что российская агрессия — вот, что нас связало снова. Можно по-разному относиться к Пушкину, но чтобы выстрелить собой в белый свет, как в копеечку, необходимо сделать осознанный выбор. Мы оставили свои дома, жизни, свой город, оборвали множество связей, в том числе семейных и дружеских. И вот после двух лет мытарств бредём после сауны по Подолу к метро «Контрактовая». В баклажке плещется вода из Фроловского монастыря. Настроение не то чтобы хорошее, но после банных процедур терпимое. Чувствую, что назревает какой-то разговор, но не тороплю.
— Тут вот какое дело, — говорит мой Бенджамен, улыбаясь немного виноватой улыбкой, — мне-то уже лет сколько, ты сам знаешь… Здоровье, честно говоря, как раз на этот возраст. С работой тут, сам понимаешь…
— И что? — отвечаю я, изучая блики солнца, играющие в окнах домов.
— У меня в Израиле будет пенсия, если я туда поеду, — Бенджамен замолкает, останавливается и выжидающе смотрит на меня.
— Так в чём же дело, Бенджамен? — говорю я, улыбаясь. — Это хорошая новость. Иди в консульство и начинай процедуру отъезда.
— Так я уже звонил туда, но что-то трубку не берут… — скучным голосом сообщает он, и мы идём дальше.
— Это потому что ты сам не решил ещё, ехать тебе или остаться, потому они и трубку не берут, — кивнул я. — Ты реши что-нибудь окончательно, и всё у тебя сразу получится.
— Да я вот не знаю…
— Что именно ты не знаешь, дорогой?
— А как же Украина? Как же она? — говорит тут Бенджамен.
И в этот момент у меня перехватывает горло. Натурально становится нечем дышать, если вы понимаете, о чём я. Необходимо остановиться, сделать вид, что меня что-то заинтересовало там, в высоте, сияющей над крестами, каштанами и облаками.
— Нормально, — говорю, — Бенджамен, не переживай. Я же здесь пока остаюсь, значит, будет нормально.
— Нет, ну а как же, — вздыхает он, — я же украинец. Как я уеду отсюда? Как брошу это всё?
— Да господи боже мой! — отвечаю я. — Будь ты украинцем, Беня! Никто же тебя не заставит им не быть, ты сам подумай своей головой. А если соскучишься, то для этих случаев есть лоукосты. А уж я тебе в той или иной снятой квартире рядом со мной всегда матрас на пол кину или одеяло. Мне Олеся Мамчич, есть такая замечательная поэтесса у нас, несколько одеял подарила два года назад.
— Нет, ты действительно думаешь, что нормально?
— Тебе сколько лет, Бенджамен? — спрашиваю я.
— Шестьдесят девять, — застенчиво улыбается он.
Я качаю головой, и мы идём дальше. Тема исчерпана.
— Тут вот какое дело, — говорит мой Бенджамен, улыбаясь немного виноватой улыбкой, — мне-то уже лет сколько, ты сам знаешь… Здоровье, честно говоря, как раз на этот возраст. С работой тут, сам понимаешь…
— И что? — отвечаю я, изучая блики солнца, играющие в окнах домов.
— У меня в Израиле будет пенсия, если я туда поеду, — Бенджамен замолкает, останавливается и выжидающе смотрит на меня.
— Так в чём же дело, Бенджамен? — говорю я, улыбаясь. — Это хорошая новость. Иди в консульство и начинай процедуру отъезда.
— Так я уже звонил туда, но что-то трубку не берут… — скучным голосом сообщает он, и мы идём дальше.
— Это потому что ты сам не решил ещё, ехать тебе или остаться, потому они и трубку не берут, — кивнул я. — Ты реши что-нибудь окончательно, и всё у тебя сразу получится.
— Да я вот не знаю…
— Что именно ты не знаешь, дорогой?
— А как же Украина? Как же она? — говорит тут Бенджамен.
И в этот момент у меня перехватывает горло. Натурально становится нечем дышать, если вы понимаете, о чём я. Необходимо остановиться, сделать вид, что меня что-то заинтересовало там, в высоте, сияющей над крестами, каштанами и облаками.
— Нормально, — говорю, — Бенджамен, не переживай. Я же здесь пока остаюсь, значит, будет нормально.
— Нет, ну а как же, — вздыхает он, — я же украинец. Как я уеду отсюда? Как брошу это всё?
— Да господи боже мой! — отвечаю я. — Будь ты украинцем, Беня! Никто же тебя не заставит им не быть, ты сам подумай своей головой. А если соскучишься, то для этих случаев есть лоукосты. А уж я тебе в той или иной снятой квартире рядом со мной всегда матрас на пол кину или одеяло. Мне Олеся Мамчич, есть такая замечательная поэтесса у нас, несколько одеял подарила два года назад.
— Нет, ты действительно думаешь, что нормально?
— Тебе сколько лет, Бенджамен? — спрашиваю я.
— Шестьдесят девять, — застенчиво улыбается он.
Я качаю головой, и мы идём дальше. Тема исчерпана.
Миг

Миг
Проходит месяца полтора. Как раз на Великий пост Бенджамен звонит и сообщает, что улетает через две недели.
— Что-то быстро как-то, — сглатываю я неприятную сухую слюну.
— Ты знаешь, можно было на два месяца позже, но я как подумал, что мне снова деньги за квартиру платить…
— Да, — говорю я, — деньги за квартиру…
Пост постом, а друг другом. Следующая неделя после Крестовоздвижения. Мы встречаемся у меня. Пьём сухое вино. Говорим обо всём на свете.
— А как же библиотека твоя? — спрашиваю я. — Как Пушкин?
— Скачал себе полное собрание сочинений, — задумчиво сообщает Бенджамен. — На всякий случай. Да и не только его. На дисках всё. И Сервантес, и Грушевский, и Лесков, и Драгоманов, и Шекспир, и Шевченко, и всё-всё, что хотелось с собой взять. Всё, что издавал, что любил и помнил.
Около полуночи он уехал на такси. Провожать его в аэропорт я не поехал.
Бенджамен написал мне письмо, а потом и позвонил из Нагарии. Есть такой город в Северном округе Израиля. 60 тыс. жителей, площадь под управлением городского муниципалитета — 10,5 кв. км. Север Израиля — удивительные места, ласковое море, небо, в котором хочется утонуть…
Однажды я приехал на Контрактовую специально за водой. Шёл мелкий дождь, было прохладно, серо, хотелось каких-то неопределённых вещей. Например, поспать или, скажем, выпить бутылку водки. Набрав воды, спустился вниз, услышал, как подъехал мой поезд, и лихорадочно заспешил по ступенькам. И, конечно, не успел. Как я мог успеть? Я никогда никуда не успеваю. Но, может быть, и хорошо, что так получилось, потому что из окна последнего вагона на меня смотрел мой друг Бенджамен. Он стоял у самой двери, улыбался и махал рукой.
Я стал мокрый, как мышь, и долго не мог отдышаться. Несколько дней вспоминал лицо того человека, отмечая, что он много моложе моего друга; убеждая себя, что имела место путаница, обычная вещь в мегаполисе. А вот сейчас я подумал о том, что произошло нечто совершенно иное. Возможно, это называется любовью. Такой эффект, когда уезжаешь лишь для того, чтобы остаться здесь навсегда.
— Что-то быстро как-то, — сглатываю я неприятную сухую слюну.
— Ты знаешь, можно было на два месяца позже, но я как подумал, что мне снова деньги за квартиру платить…
— Да, — говорю я, — деньги за квартиру…
Пост постом, а друг другом. Следующая неделя после Крестовоздвижения. Мы встречаемся у меня. Пьём сухое вино. Говорим обо всём на свете.
— А как же библиотека твоя? — спрашиваю я. — Как Пушкин?
— Скачал себе полное собрание сочинений, — задумчиво сообщает Бенджамен. — На всякий случай. Да и не только его. На дисках всё. И Сервантес, и Грушевский, и Лесков, и Драгоманов, и Шекспир, и Шевченко, и всё-всё, что хотелось с собой взять. Всё, что издавал, что любил и помнил.
Около полуночи он уехал на такси. Провожать его в аэропорт я не поехал.
Бенджамен написал мне письмо, а потом и позвонил из Нагарии. Есть такой город в Северном округе Израиля. 60 тыс. жителей, площадь под управлением городского муниципалитета — 10,5 кв. км. Север Израиля — удивительные места, ласковое море, небо, в котором хочется утонуть…
Однажды я приехал на Контрактовую специально за водой. Шёл мелкий дождь, было прохладно, серо, хотелось каких-то неопределённых вещей. Например, поспать или, скажем, выпить бутылку водки. Набрав воды, спустился вниз, услышал, как подъехал мой поезд, и лихорадочно заспешил по ступенькам. И, конечно, не успел. Как я мог успеть? Я никогда никуда не успеваю. Но, может быть, и хорошо, что так получилось, потому что из окна последнего вагона на меня смотрел мой друг Бенджамен. Он стоял у самой двери, улыбался и махал рукой.
Я стал мокрый, как мышь, и долго не мог отдышаться. Несколько дней вспоминал лицо того человека, отмечая, что он много моложе моего друга; убеждая себя, что имела место путаница, обычная вещь в мегаполисе. А вот сейчас я подумал о том, что произошло нечто совершенно иное. Возможно, это называется любовью. Такой эффект, когда уезжаешь лишь для того, чтобы остаться здесь навсегда.
