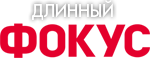АРТЕФАКТЫ
Армейский сувенир
Какой на самом деле была Советская армия

Я родился в пяти километрах от военного аэродрома и долго считал армию чем-то почти волшебным и чертовски привлекательным. Таким специальным местом, где дают красивые шлемы, как тот, что стоял на шкафу у моего приятеля, отец которого работал лётчиком-испытателем. Местом, откуда взлетали вертолёты, шестёрки истребителей и гигантские транспортники. Тень от них лишь на мгновение закрывала от жаркого солнца, но от восторга это мгновение казалось очень долгим. Ну и ещё армия была примечательна кладбищем самолётов, где можно было разжиться магнием для взрывпакетов, отпилив кусок от колеса.
Первый удар по романтическому образу был нанесён, когда я, десятилетний, впервые близко увидел солдат-срочников. Знакомство с ними вышло случайным. Мой отец подрабатывал в Доме пионеров. Руководство части решило показать там самодеятельный спектакль в честь Нового года и попросило помочь в подготовке постановки. И вот десять солдат пришли к нам домой, заполнив квартиру специфическим запахом. Пока они что-то обсуждали с отцом, мама экстренно сочиняла угощение «для мальчиков», оладьи, что ли. Мальчики ели жадно, опустошили несколько банок с вареньем. Съели даже сливовое, что меня поразило, ведь я его терпеть не мог.
Через год призвали моего брата Сашу, отправили в учебку под Волгоградом. Когда мы всей семьёй приехали к нему на присягу, брат удивил — совсем недавно весёлый красивый парень как-то осунулся, всё больше молчал и так же жадно, как и пацаны с аэродрома, уплетал пирожки и бутерброды. А я, глядя на тёмные круги под его глазами, окончательно убедился, что в армии всё не так сказочно.
Через месяц после развала Союза родители решили Сашу украсть. Мы с отцом опять поехали в Волгоград. Брату дали увольнительную только на сутки, поэтому отец нервничал: могли не успеть добраться до украинской границы. Всё обошлось. Приехав домой, Саша погулял несколько дней, повеселел, разговорился и рассказал несколько поучительных историй о противостоянии со среднеазиатским землячеством, которому славяне проигрывали в численности в несколько раз. Тогда же сказал мне запомнившуюся на всю жизнь фразу: «В такой армии тебе делать нечего, коси, как только сможешь».
Брат стал на учёт в военкомат, его отправили служить на аэродром. Здесь он чрезмерно расслабился: командир части — старый знакомый моего отца — даже просил его сделать внушение сыну, иначе грозил сослать шалопая на месяц к десантникам в соседнюю часть. Звучало угрожающе, брату было строго наказано не борзеть, и он послушался, присмирел, перестал каждую ночь уходить в самоволки.
В 1992 году живые деньги в нашем посёлке регулярно видели только военные и бандиты. Впрочем, некоторые совмещали обе профессии. Саша решил отучиться в школе прапорщиков, тем более что срок учёбы был зачтён в счёт срочной службы. Получил погоны, а вскоре и первую зарплату: «Неплохо, да?» — сказал он, демонстрируя в бумажнике толстую пачку новеньких купоно-карбованцев.
Как и положено прапорщику, брат подбирал кое-что по мелочам из того, что плохо лежало. В доме появился ранец десантника, маскхалат, пара фляжек и котелков, несколько банок консервированного хлеба и мяса с почти бесконечным сроком хранения, а также карта Крыма, изготовленная для Генштаба, — сказывалось увлечение туризмом. В итоге практически всё это для походов не пригодилось и куда-то делось.
Брат уволился сразу после окончания контракта, похоже, он вдоволь наелся армией, у него даже мысли не возникало отмечать профессиональные праздники — 23 февраля, или День ВВС. Я вырос, мы разъехались по разным городам, и об этом соприкосновении с разрушенной сказкой мне долгое время напоминала лишь карта Генштаба, сохранившаяся чудом, да фотография Саши в парадной форме, сделанная в день присяги. На ней он улыбается.
Впоследствии я не раз встречал в домах отслуживших приятелей армейские сувениры. Часы, подаренные министром обороны за меткую стрельбу из танка, портупея, гвардейский значок, складная сапёрная лопатка, бескозырка… У каждого сувенира интересная история. Рассказывая их, почему-то принято смеяться, хотя многое из сказанного вряд ли может показаться смешным.
Первый удар по романтическому образу был нанесён, когда я, десятилетний, впервые близко увидел солдат-срочников. Знакомство с ними вышло случайным. Мой отец подрабатывал в Доме пионеров. Руководство части решило показать там самодеятельный спектакль в честь Нового года и попросило помочь в подготовке постановки. И вот десять солдат пришли к нам домой, заполнив квартиру специфическим запахом. Пока они что-то обсуждали с отцом, мама экстренно сочиняла угощение «для мальчиков», оладьи, что ли. Мальчики ели жадно, опустошили несколько банок с вареньем. Съели даже сливовое, что меня поразило, ведь я его терпеть не мог.
Через год призвали моего брата Сашу, отправили в учебку под Волгоградом. Когда мы всей семьёй приехали к нему на присягу, брат удивил — совсем недавно весёлый красивый парень как-то осунулся, всё больше молчал и так же жадно, как и пацаны с аэродрома, уплетал пирожки и бутерброды. А я, глядя на тёмные круги под его глазами, окончательно убедился, что в армии всё не так сказочно.
Через месяц после развала Союза родители решили Сашу украсть. Мы с отцом опять поехали в Волгоград. Брату дали увольнительную только на сутки, поэтому отец нервничал: могли не успеть добраться до украинской границы. Всё обошлось. Приехав домой, Саша погулял несколько дней, повеселел, разговорился и рассказал несколько поучительных историй о противостоянии со среднеазиатским землячеством, которому славяне проигрывали в численности в несколько раз. Тогда же сказал мне запомнившуюся на всю жизнь фразу: «В такой армии тебе делать нечего, коси, как только сможешь».
Брат стал на учёт в военкомат, его отправили служить на аэродром. Здесь он чрезмерно расслабился: командир части — старый знакомый моего отца — даже просил его сделать внушение сыну, иначе грозил сослать шалопая на месяц к десантникам в соседнюю часть. Звучало угрожающе, брату было строго наказано не борзеть, и он послушался, присмирел, перестал каждую ночь уходить в самоволки.
В 1992 году живые деньги в нашем посёлке регулярно видели только военные и бандиты. Впрочем, некоторые совмещали обе профессии. Саша решил отучиться в школе прапорщиков, тем более что срок учёбы был зачтён в счёт срочной службы. Получил погоны, а вскоре и первую зарплату: «Неплохо, да?» — сказал он, демонстрируя в бумажнике толстую пачку новеньких купоно-карбованцев.
Как и положено прапорщику, брат подбирал кое-что по мелочам из того, что плохо лежало. В доме появился ранец десантника, маскхалат, пара фляжек и котелков, несколько банок консервированного хлеба и мяса с почти бесконечным сроком хранения, а также карта Крыма, изготовленная для Генштаба, — сказывалось увлечение туризмом. В итоге практически всё это для походов не пригодилось и куда-то делось.
Брат уволился сразу после окончания контракта, похоже, он вдоволь наелся армией, у него даже мысли не возникало отмечать профессиональные праздники — 23 февраля, или День ВВС. Я вырос, мы разъехались по разным городам, и об этом соприкосновении с разрушенной сказкой мне долгое время напоминала лишь карта Генштаба, сохранившаяся чудом, да фотография Саши в парадной форме, сделанная в день присяги. На ней он улыбается.
Впоследствии я не раз встречал в домах отслуживших приятелей армейские сувениры. Часы, подаренные министром обороны за меткую стрельбу из танка, портупея, гвардейский значок, складная сапёрная лопатка, бескозырка… У каждого сувенира интересная история. Рассказывая их, почему-то принято смеяться, хотя многое из сказанного вряд ли может показаться смешным.
Календарик
Антин Мухарский (46 лет), он же Орест Лютый, актёр, писатель, галерист. Воинское звание — младший сержант

Календарик
Антин Мухарский (46 лет), он же Орест Лютый, актёр, писатель, галерист.
Воинское звание — младший сержант
Воинское звание — младший сержант
Было страшновато идти в армию. За несколько лет до призыва мой двоюродный брат отслужил на БАМе, рассказывал всякие ужасы о дедовщине, издевательствах над молодыми бойцами, плохом питании. Всё это было. Сначала меня направили в учебку под Белой Церковью. Затем служил в группе советских войск в Германии: сначала попал на распределительный пункт во Франкфурте-на-Одере, после служил в танковой части в Вюнсдорфе. Там в первый же день всех молодых бойцов поодиночке заводили на обработку в помещение, где располагались ногомойники. Деды кричали: «Ты никто, ты дух». Валили на пол, пинали ногами. Каждому из 30 бойцов нового призыва уделяли пару минут, за полтора часа успели всех обработать.
Я быстро понял, куда попал. Жизнь в армии — это докурить за кем-нибудь сигаретку, поесть сахара, сходить поср…ть в яму, помечтать о тёлках. Но вообще-то я хотел только одного — выжить. В юности любил читать Джека Лондона, Ремарка, Хемингуэя и отнёсся к службе, как к испытанию, как к квесту на выживание.
Пришлось столкнуться с абсолютным унижением человеческого достоинства. Пройти через издевательства, систему воспитания бойца… Наряды иногда растягивались на трое суток — всё это время нельзя было поспать. Советская армия могла научить юношу только издевательству над окружающими. Отсюда, как я понимаю, повсеместные на постсоветском пространстве побои жён, истязания детей и пресмыкательство перед сильными.
Это реально была дикая орда, живущая в азиатской парадигме деспотического бытия. В первые месяцы службы меня поражало, что большинство солдат, служивших в Германии, — выходцы из Татарстана, республик Средней Азии. Потом догадался, почему это так. Контингент Советской армии в Германии насчитывал около 600 тыс. человек, европеоидов из них было 20–30%. Думаю, азиатов специально туда посылали, чтобы Союза боялись, понимая, что в сердце Европы стоит орда. Вела она себя соответствующе. В армии не употребляют мат, на нём разговаривают, там постоянно звучало: «Бл…, я твою маму…». Поначалу это шокировало, в Киеве я с таким не сталкивался.
Я быстро понял, куда попал. Жизнь в армии — это докурить за кем-нибудь сигаретку, поесть сахара, сходить поср…ть в яму, помечтать о тёлках. Но вообще-то я хотел только одного — выжить. В юности любил читать Джека Лондона, Ремарка, Хемингуэя и отнёсся к службе, как к испытанию, как к квесту на выживание.
Пришлось столкнуться с абсолютным унижением человеческого достоинства. Пройти через издевательства, систему воспитания бойца… Наряды иногда растягивались на трое суток — всё это время нельзя было поспать. Советская армия могла научить юношу только издевательству над окружающими. Отсюда, как я понимаю, повсеместные на постсоветском пространстве побои жён, истязания детей и пресмыкательство перед сильными.
Это реально была дикая орда, живущая в азиатской парадигме деспотического бытия. В первые месяцы службы меня поражало, что большинство солдат, служивших в Германии, — выходцы из Татарстана, республик Средней Азии. Потом догадался, почему это так. Контингент Советской армии в Германии насчитывал около 600 тыс. человек, европеоидов из них было 20–30%. Думаю, азиатов специально туда посылали, чтобы Союза боялись, понимая, что в сердце Европы стоит орда. Вела она себя соответствующе. В армии не употребляют мат, на нём разговаривают, там постоянно звучало: «Бл…, я твою маму…». Поначалу это шокировало, в Киеве я с таким не сталкивался.
До призыва я был студентом Киевского театрального института, поэтому, попав в танковую часть, написал письмо в военный ансамбль. Через три месяца пришёл прапорщик, меня и ещё троих парней забрал в ансамбль, где я прослужил полтора года. Если службу в первые три месяца можно сравнить с зоной, то в ансамбле была «зона повышенного комфорта». У нас была отдельная кухня, которая готовила на 40 человек. Когда я, оголодавший, пришёл на первый ужин, был удивлён — повар приготовил рыбные котлеты, а вермишель не слипалась в один склизкий кусок. На столиках даже стояли вазочки с искусственными цветами. Всё это из-за того, что в ансамбле работало много немцев, им нужно было показать витрину Советского Союза: мы тоже хорошие, у нас тоже культурка есть. Это лицо русского мира: повсеместные потёмкинские деревни на фоне варварства.

Мы ждали наступления так называемых пресс-фестов: в такой обёртке региональные коммунистические газеты устраивали праздники своих городов. На пресс-фесты приглашали наш ансамбль, мы ездили по всей стране. Немцы собирались на центральной площади, где выступали мы и немецкие артисты. Весной 1989 года побывали в городах Зуль, Йена, Эрфурт, Лейпциг и Дрезден. И на каждом концерте наш ансамбль забрасывали бутылками. Кому-то попало в голову, а мы стояли — нам, солдатам, нельзя было уйти со сцены. Бутылками нас забрасывали местные радикалы. Сейчас я понимаю, что если бы у меня имелся выбор, я, скорее всего, был бы на их стороне. Ведь, по сути, Советская армия была не чем иным, как оккупационным контингентом. Мы поняли: что-то происходит, режим начинает шататься.
Ещё школьником я занимался фарцовкой. Помогал старшим товарищам: выкупал у иностранцев кроссовки, пуховики, какие-то вещи, а потом продавал их советским людям, жаждущим «красивой жизни». А будучи в Германии, пел в хоре и был по совместительству почтальоном. Это помогло наладить поставку валюты. Мне приходили письма, куда родители сослуживцев клали десятку. Немецкие банки покупали рубли, но для этого нужны были специальные документы. Мы их добывали так. Рядом с нами стоял полк охраны, там нам продавали таможенные декларации. Мы подделывали печать, получалось хреново, но прокатывало, немцы в этом не разбирались. И когда появлялась возможность, меняли деньги — три червонца на 96 марок. Столько стоила пара хорошей обуви.
Однажды я отдал свой военный билет, три декларации и 90 рублей водителю начальника нашего ансамбля, чтобы тот поменял их для меня в Берлине. За подобные услуги он брал 30% от выручки, но всё равно это было выгодно. Ночью я проснулся от громкой команды: «Мухарский, на выход!» Оказалось, что водитель поехал в Берлин, там напился, ударил несколько машин, его задержали полицейские, нашли мой военник, декларации и деньги. В 1989 году из этого мог получиться международный скандал: посмотрите, как советские солдаты торгуют валютой и бьют машины. Хорошо, что первым на месте событий оказался наш кагэбист майор Лукин, который посодействовал тому, чтобы скандал замяли, и как-то умыкнул мой военник. И вот он меня вызывает и говорит: «Допрыгался. Тебя ждёт несколько лет в штрафбате, а пока иди на тумбочку». На тумбочке я простоял трое суток, оценивая масштаб катастрофы: «Прощайте, мама и папа, впереди тюрьма. И, главное ведь — дембель вот-вот». Но майор не стал давать делу ход, только попугал, отдал билет, и через месяц я уехал домой.
Ещё школьником я занимался фарцовкой. Помогал старшим товарищам: выкупал у иностранцев кроссовки, пуховики, какие-то вещи, а потом продавал их советским людям, жаждущим «красивой жизни». А будучи в Германии, пел в хоре и был по совместительству почтальоном. Это помогло наладить поставку валюты. Мне приходили письма, куда родители сослуживцев клали десятку. Немецкие банки покупали рубли, но для этого нужны были специальные документы. Мы их добывали так. Рядом с нами стоял полк охраны, там нам продавали таможенные декларации. Мы подделывали печать, получалось хреново, но прокатывало, немцы в этом не разбирались. И когда появлялась возможность, меняли деньги — три червонца на 96 марок. Столько стоила пара хорошей обуви.
Однажды я отдал свой военный билет, три декларации и 90 рублей водителю начальника нашего ансамбля, чтобы тот поменял их для меня в Берлине. За подобные услуги он брал 30% от выручки, но всё равно это было выгодно. Ночью я проснулся от громкой команды: «Мухарский, на выход!» Оказалось, что водитель поехал в Берлин, там напился, ударил несколько машин, его задержали полицейские, нашли мой военник, декларации и деньги. В 1989 году из этого мог получиться международный скандал: посмотрите, как советские солдаты торгуют валютой и бьют машины. Хорошо, что первым на месте событий оказался наш кагэбист майор Лукин, который посодействовал тому, чтобы скандал замяли, и как-то умыкнул мой военник. И вот он меня вызывает и говорит: «Допрыгался. Тебя ждёт несколько лет в штрафбате, а пока иди на тумбочку». На тумбочке я простоял трое суток, оценивая масштаб катастрофы: «Прощайте, мама и папа, впереди тюрьма. И, главное ведь — дембель вот-вот». Но майор не стал давать делу ход, только попугал, отдал билет, и через месяц я уехал домой.

У меня сохранилось несколько армейских сувениров. Военный билет, погоны и шевроны, несколько медалей, которыми меня за что-то награждали, например, за работу с пионерской организацией. А также календарик за 1989 год, в котором каждый день проколот иголкой, — была такая традиция в армии. Смотришь на эту перфорацию и понимаешь, сколько тебе осталось до дембеля. «Масло съели, день прошёл, старшина домой ушёл».
После дембеля не было желания праздновать 23 февраля. Хотя мы собирались с киевлянами, с которыми я служил. До сих пор переписываемся, встречаемся, вспоминаем, смотрим фотографии. Мне повезло: в армии у нас собрался немногочисленный клуб интеллектуалов, мы устраивали капустники, первыми читали все журналы, которые приходили: «Новый мир», «Знание», «Огонёк». Литература, доступ к которой открылся во времена перестройки, сделала из меня убеждённого антисоветчика.
Главный вывод, к которому я пришёл за время службы: когда тебя коварно валят на пол и начинают метелить, нужно закрывать голову руками. Азиаты всегда скопом наваливались. Если есть возможность, нужно хватать табуретку и истерически кричать: «Бл…, поубиваю, суки». Такой крик вводит нападающих в ступор, и, понимая, что человек будет обороняться до конца, они отступают. Это что касается практического опыта. Из ментального — Советская армия, а за ней и российская и те орки, которые сейчас лезут на нас — наследники орды, варвары, представители дикого азиатского мира.
Мне было приятно наблюдать за тем, как в ноябре 1989 года навернулась Берлинская стена. Я страшно ненавидел Совок и Советскую армию со всеми их прапорщиками и гэбистами. Кстати, песня «А я не москаль», которую сейчас исполняет Орест Лютый, написана как раз в 1989-м году, во время службы. Как я радовался, когда вскоре из Германии вывели советские войска вместе с гэбнёй. А затем и Союз развалился.
Главный вывод, к которому я пришёл за время службы: когда тебя коварно валят на пол и начинают метелить, нужно закрывать голову руками. Азиаты всегда скопом наваливались. Если есть возможность, нужно хватать табуретку и истерически кричать: «Бл…, поубиваю, суки». Такой крик вводит нападающих в ступор, и, понимая, что человек будет обороняться до конца, они отступают. Это что касается практического опыта. Из ментального — Советская армия, а за ней и российская и те орки, которые сейчас лезут на нас — наследники орды, варвары, представители дикого азиатского мира.
Мне было приятно наблюдать за тем, как в ноябре 1989 года навернулась Берлинская стена. Я страшно ненавидел Совок и Советскую армию со всеми их прапорщиками и гэбистами. Кстати, песня «А я не москаль», которую сейчас исполняет Орест Лютый, написана как раз в 1989-м году, во время службы. Как я радовался, когда вскоре из Германии вывели советские войска вместе с гэбнёй. А затем и Союз развалился.
Дембельский альбом
Константин Симоненко (49 лет), журналист. Воинское звание — старший матрос

Дембельский альбом
Константин Симоненко (49 лет), журналист. Воинское звание — старший матрос
Когда я служил, у меня было единственное желание — пусть всё это поскорее закончится. За сто дней до приказа об увольнении в запас начал делать дембельский альбом. Чуть ли не на первой странице нарисовал себя с повесткой в руках и со слезами на глазах. Повестку я получил в июне 1987-го. Мне было 19 лет.
По распределению попал на Северный флот в морскую авиацию. Но название рода войск — единственное, что меня связывало с морем. Служил в береговых частях, получил воинскую специальность «оператор радиотехнической системы ближней навигации». Наша часть располагалась в Североморске. Наверное, специально так отправляли, чтобы домой далеко бежать было.
Один мой знакомый любит повторять: «Они украли у меня два года жизни. Армия меня ничему не научила». Меня наоборот. Я рос совершенно домашним, тихим ребёнком. И если бы не служба, не знаю, как бы я в жизни устраивался. Там люди на виду друг у друга 24 часа в сутки, и рано или поздно каждый своё нутро показывает. Попадаешь в жёсткие условия. Вот тебе форма — парадная, повседневная, шинель, бушлат — пришей к ней все необходимые нашивки. На всё про всё два часа. А ты иголку в руках никогда не держал. Но в армии действует принцип: не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Лично для меня в этом был смысл.
Отчётливо помню картинку: длинный коридор, в конце которого плохо освещённая фигура сержанта. Нас гонят, как скот, с криками: «Сейчас все бросаем свои куртки», «Сейчас рубашки» и так до «в чём мама родила». Потом душ, где краны работали так, что или кипяток, или ледяная вода. И снова крик: «Заканчивайте помывку!»
Чтобы человек слушался приказов, его нужно обломать. Заходит сержант в комнату: «Ну что, салабон, нормально убрал в «кубрике»?» Потом берёт бескозырку в белом чехле и трёт ею пол. Она грязная. И ты не только пол перемываешь, но ещё и чехол стираешь.
По распределению попал на Северный флот в морскую авиацию. Но название рода войск — единственное, что меня связывало с морем. Служил в береговых частях, получил воинскую специальность «оператор радиотехнической системы ближней навигации». Наша часть располагалась в Североморске. Наверное, специально так отправляли, чтобы домой далеко бежать было.
Один мой знакомый любит повторять: «Они украли у меня два года жизни. Армия меня ничему не научила». Меня наоборот. Я рос совершенно домашним, тихим ребёнком. И если бы не служба, не знаю, как бы я в жизни устраивался. Там люди на виду друг у друга 24 часа в сутки, и рано или поздно каждый своё нутро показывает. Попадаешь в жёсткие условия. Вот тебе форма — парадная, повседневная, шинель, бушлат — пришей к ней все необходимые нашивки. На всё про всё два часа. А ты иголку в руках никогда не держал. Но в армии действует принцип: не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Лично для меня в этом был смысл.
Отчётливо помню картинку: длинный коридор, в конце которого плохо освещённая фигура сержанта. Нас гонят, как скот, с криками: «Сейчас все бросаем свои куртки», «Сейчас рубашки» и так до «в чём мама родила». Потом душ, где краны работали так, что или кипяток, или ледяная вода. И снова крик: «Заканчивайте помывку!»
Чтобы человек слушался приказов, его нужно обломать. Заходит сержант в комнату: «Ну что, салабон, нормально убрал в «кубрике»?» Потом берёт бескозырку в белом чехле и трёт ею пол. Она грязная. И ты не только пол перемываешь, но ещё и чехол стираешь.
Нам повезло, что тогда вышло распоряжение Горбачёва о борьбе с дедовщиной в армии. Об этом говорили на каждой политинформации. Но от дедов всё равно доставалось время от времени. Тебя просят: «Слушай, братан, там нужно в курилке подмести, а я так тороплюсь. Подмети». И ты думаешь: «Почему ж не помочь человеку». Спускаешься с веником в курилку и начинаешь подметать, а тебе кто-то из дедушек: «Эй, боец, вон ещё там прибрать нужно». — «Кто вы мне такой?» — «Дух, ты о...л!» Было такое выражение: «Объявляю вам выговор с занесением в грудную клетку».
Первое, что я услышал в своей военной части: «Учись, студент, воровать, в жизни пригодится». Наш объект был первым пунктом, где делилась добыча — провизия. Это был такой кураж, приключение — взять на складе помимо того, что написано в накладной, что-то ещё. Чтобы быстрее добраться с добром от склада до нашего объекта, мы иногда срезали дорогу по взлётной полосе. Картина маслом: прожекторы включаются, мы бежим с мешками на спине, на посадку заходит сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-22М. А потом все хвастаются, кому что удалось достать. Форменные бандиты.
Со мной служил один парнишка — воронежский тракторист. В альбоме есть его фотография — он на фонарном столбе: фонари обслуживал на аэродроме. Так тот даже умудрился тормозной парашют с самолёта спереть. Его потом спрашивали: «Ну зачем ты взял, зачем?» — «Не знаю, что-то на меня нашло». Мало того, что спёр, так ещё и порезал, хотел домой отослать.
Тогда Советского Союза с его ядерным оружием все боялись. Но будучи в армии, я думал: «Боже, как хорошо, что на нас никто не напал». Эта армия была неспособна воевать. На стрельбище мы выпускали десять патронов, а потом занимались хозяйственными работами, строевой подготовкой или изучением того, как устроена станция 1960 года выпуска.
Первое, что я услышал в своей военной части: «Учись, студент, воровать, в жизни пригодится». Наш объект был первым пунктом, где делилась добыча — провизия. Это был такой кураж, приключение — взять на складе помимо того, что написано в накладной, что-то ещё. Чтобы быстрее добраться с добром от склада до нашего объекта, мы иногда срезали дорогу по взлётной полосе. Картина маслом: прожекторы включаются, мы бежим с мешками на спине, на посадку заходит сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-22М. А потом все хвастаются, кому что удалось достать. Форменные бандиты.
Со мной служил один парнишка — воронежский тракторист. В альбоме есть его фотография — он на фонарном столбе: фонари обслуживал на аэродроме. Так тот даже умудрился тормозной парашют с самолёта спереть. Его потом спрашивали: «Ну зачем ты взял, зачем?» — «Не знаю, что-то на меня нашло». Мало того, что спёр, так ещё и порезал, хотел домой отослать.
Тогда Советского Союза с его ядерным оружием все боялись. Но будучи в армии, я думал: «Боже, как хорошо, что на нас никто не напал». Эта армия была неспособна воевать. На стрельбище мы выпускали десять патронов, а потом занимались хозяйственными работами, строевой подготовкой или изучением того, как устроена станция 1960 года выпуска.
Раз в несколько месяцев на плацу во время построения нам докладывали — на Камчатке упал такой-то борт, на Северном флоте упал такой-то борт, всплыли пять бескозырок. Самолёты на нашем аэродроме 1954–1963 годов выпуска. Взлётная полоса проложена в долине между сопками. Дальше — обрыв и в котловине озеро. Все, кто не взлетел, не долетел, лежали в этом озере. Вот, например, этот дельфинчик на обложке альбома. Он из мельхиора, который был в некоторых частях самолётов под дюралевым покрытием. Люди залазили в озеро, где обломки лежали поближе к берегу, доставали куски. Я взял такой кусочек мельхиора, вырезал из него дельфинчика и отполировал. На память.

Невоюющая армия деградирует. Просыпается дурацкая жестокость. Когда я служил в строевой части, у нас появилось больше свободного времени. Начальство в гарнизоне, а это 3–4 км от нашего объекта. Нас всего трое на объекте, и мы сами по себе. Вроде как несём службу, но можем лечь поспать, никто не попалит. Я там несколько раз вымещал злость на собаках. Не горжусь этим, просто анализирую. Потому что был в том состоянии, когда хотелось к кому-то придраться, выпустить пар.
Домой я присылал пафосные письма. Не будешь же признаваться, что тут полная фигня. Вот и писал что-то вроде: «На этом прощаюсь, чтобы у вас там было всё хорошо, а мирное небо мы обеспечим»…
Домой я присылал пафосные письма. Не будешь же признаваться, что тут полная фигня. Вот и писал что-то вроде: «На этом прощаюсь, чтобы у вас там было всё хорошо, а мирное небо мы обеспечим»…
Китель
Алексей Коган (59 лет), арт-директор фестивалей Jazz in Kiev, Alfa Jazz Fest. Воинское звание — старший сержант запаса

Китель
Алексей Коган (59 лет), арт-директор фестивалей Jazz in Kiev, «Alfa Jazz Fest Алексей Коган». Воинское звание — старший сержант запаса
К моменту призыва у меня за плечами было десять лет игры на скрипке и солидный опыт игры на бас-гитаре. В армию призвали весной 1976 года. Мама смогла договориться, чтобы меня прослушали в известном ансамбле МВД, его начальником был мой теперь большой друг — дядя Толя Молотай. Я приехал в казарму на Подол — койки в два яруса, шикарная аппаратура. Пропукал на басу по нотам песню «А служим мы во внутренних войсках», потом меня попросили на слух сыграть «Лебединую верность» Мартынова, сыграл — сказался опыт работы ресторанным лабухом. Затем меня спрашивают: «А двенадцатитактный блюз можешь?» Сыграл, и ребята говорят: «Будешь с нами». Но когда пришли в управление, мою маму ждал удар: накануне было принято решение киевлян в Киеве не оставлять.
Направили в Шестую гвардейскую танковую армию. Мой отдельный полк базировался в Днепропетровске, но в основном служба проходила за городом в лесу. Место называлось «Пальмира», там находилось первое кольцо противоракетной обороны Киева.
В первые полгода испытал на себе дедовщину. Те, кто прослужил полтора года, издевались над молодыми по полной программе. В основном свирепствовали сельские парни из Кировоградской, Сумской областей. Там я, абсолютно гражданский человек, скрипач, почувствовал себя мужиком — пришлось за себя постоять. Это было сложно, но я ни разу не стирал чужие портянки, а те, кто сделал это один раз, стирали их, пока не пришли молодые из нового призыва. Но три-четыре раза так получал по голове, что мало не казалось.
Голодно не было, кормили нормально, но была такая штука — «самолёт». Когда ты заступаешь в наряд по кухне, но не успеваешь во время прийти, например, поздно вернулся из караула, съедают твою пайку. Ты подходишь к столу, а твои друзья ехидно улыбаются и показывают руками движение, как будто самолёт взлетает. Один раз я очень хотел есть, поэтому жутко расстроился из-за того, что меня «засамолётили». Вскоре на кухню позвонили и сказали, что пять офицеров не придут на ужин, а для них в шкафчике оставили пять жареных котлет и бачок с «офицерской» гречневой кашей — там было много масла. В других обстоятельствах я бы, конечно, поделился со всеми, так оно и было всегда, но тут решил проучить пацанов. На третьей котлете меня засекли и стали бегать за мной по огромной полковой столовой, пытаясь забрать жратву. Когда поймали, остался один кусочек котлеты, остальное успел запихать в рот. Тогда бачок с гречневой кашей мне торжественно надели на голову.
За время службы меня несколько раз отправляли в Киев в командировки лишь по одной причине — я не бухал. Наши офицеры ездили на год в Сомали в качестве так называемых военных специалистов. Папки с их делами нужно было отвозить в штаб армии. Однажды отправили какого-то кадра, он забухал в поезде, его нашли через четыре дня в бессознательном состоянии в Белой Церкви. Документы он не потерял, но всё равно был жуткий скандал, получивший название «февральские события». Когда впервые послали с документами меня, старослужащие научили: «Приезжаешь в Киев — ни домой, никуда. Чистишь сапоги, подшиваешь свежий воротничок, строевым шагом проходишь в кабинет полковника Котикова, там докладываешь по форме «Сержант Коган прибыл, за время следования замечаний не имел» и увидишь, что будет». Я сделал, как мне советовали. Котиков посмотрел на меня, говорит: «Орёл! Трое суток дома». А по идее, после того как отдал документы, должен был сразу же ехать обратно в часть.
Я помню фамилии всех ребят, с которыми служил, командиров. У нас был потрясающий замполит полка — капитан Эль. Все думали, что он умеет только красиво говорить, но однажды Эль поразил, показав на учениях, что такое стрельба по-македонски: хаотично прыгая в разные стороны и стреляя с двух рук из пистолетов, он попадал только по рукам и ногам мишеней. А Женя Рева рисовал на листах ватмана плакаты — Майлза Девиса, Рона Картера, The Beatles. Два парня с Урала — Гена Гугнин и Саша Колчеданцев, которые на гражданке были комбайнёрами, научили бережному отношению к хлебу. Садясь завтракать, они доставали белоснежные носовые платки — это в армии-то! — клали на них хлеб, когда доедали, смахивали с платков крошки в ладошку и отправляли их в рот — они знали цену хлебу. Самое трогательное, что когда грянул Чернобыль, первыми мне звонили ребята из роты, предлагали приютить мою семью.
Я чуть не остался в армии навсегда: в сентябре 1977 года во время учений на Гончаровском танковом полигоне в Черниговской области попал в катастрофу: загорелась боевая машина пехоты, в которой я находился. Оказалось, что в агрегатном отсеке лежал станок для намотки кабеля, а кто-то не закрутил один бак с дизельным топливом, в результате произошло короткое замыкание, за ним последовала вспышка. Меня вытащил мой армейский друг Игорь Куликов, мы до сих пор дружим, он спас мне жизнь.
За мной 11 сентября приехал отец — довольно известный медик, чтобы отвезти в киевский госпиталь. Мы ехали в «москвиче», стояла страшная жара. Я сказал, что мне очень жарко, батя остановился в Семиполках, где был большой базар, посадил под деревом. Торгующие бабушки, увидев солдатика с мордой чёрного цвета и перевязанными руками, подносили творожок, какие-то фрукты, задавали один вопрос: «Сыночек, что с тобой?» Никогда этого не забуду.
Я получил ожоги второй-третьей степени рук и лица, очень долго лежал в ожоговом центре госпиталя. О бас-гитаре пришлось забыть, руки не работали. Лишь спустя 36 лет вернулся к ней, да и то не могу сказать, что играю, так — поигрываю. Помните фильм «Экипаж»? У меня было такое же лицо и руки, как у героев картины после того, как они залатали дыру в самолёте.
Лицо мне сохранил полковник Вячеслав Павлович Губенко — сын Остапа Вишни. Больше всего запомнилось, как он делал перевязки: выносил тазик с марганцовкой и говорил: «Давай, сынок, сам снимай бинты, позовёшь, как справишься». Это чистая психология: когда тебе даже самая нежная сестричка снимает бинты, жутко больно, а если действуешь сам, боль не такая сильная.
Со мной в палате лежал 19-летний мальчик из Кишинёва Андрей Мардарь, получивший жуткие травмы. Он служил в ракетных войсках. Лопнула шина пусковой установки, и в него угодил колпак от неё. Парня всего поломало, он больше года пролежал в госпитале. Уже после того, как я уволился в запас, ещё месяцев шесть-семь носил ему бульоны. Моя мама познакомилась с его мамой и сёстрами, когда увидела их плачущих в коридоре госпиталя. Им обещали выделить койку, но потом сказали, что нет такой возможности — привезли пострадавших на учениях солдат. Моя мама сказала, что плакать нечего, жить будете у нас. Потом родные Андрея несколько раз у нас останавливались, весь балкон заваливали бутылями с вином и ящиками с виноградом. А однажды Андрюша позвонил, говорит: «Я женюсь». Я уже работал, был страшно занят, на свадьбу поехали моя жена и мать. И они сидели рядом с женихом и невестой как самые почётные гости. Всё это тоже армейская история.
Направили в Шестую гвардейскую танковую армию. Мой отдельный полк базировался в Днепропетровске, но в основном служба проходила за городом в лесу. Место называлось «Пальмира», там находилось первое кольцо противоракетной обороны Киева.
В первые полгода испытал на себе дедовщину. Те, кто прослужил полтора года, издевались над молодыми по полной программе. В основном свирепствовали сельские парни из Кировоградской, Сумской областей. Там я, абсолютно гражданский человек, скрипач, почувствовал себя мужиком — пришлось за себя постоять. Это было сложно, но я ни разу не стирал чужие портянки, а те, кто сделал это один раз, стирали их, пока не пришли молодые из нового призыва. Но три-четыре раза так получал по голове, что мало не казалось.
Голодно не было, кормили нормально, но была такая штука — «самолёт». Когда ты заступаешь в наряд по кухне, но не успеваешь во время прийти, например, поздно вернулся из караула, съедают твою пайку. Ты подходишь к столу, а твои друзья ехидно улыбаются и показывают руками движение, как будто самолёт взлетает. Один раз я очень хотел есть, поэтому жутко расстроился из-за того, что меня «засамолётили». Вскоре на кухню позвонили и сказали, что пять офицеров не придут на ужин, а для них в шкафчике оставили пять жареных котлет и бачок с «офицерской» гречневой кашей — там было много масла. В других обстоятельствах я бы, конечно, поделился со всеми, так оно и было всегда, но тут решил проучить пацанов. На третьей котлете меня засекли и стали бегать за мной по огромной полковой столовой, пытаясь забрать жратву. Когда поймали, остался один кусочек котлеты, остальное успел запихать в рот. Тогда бачок с гречневой кашей мне торжественно надели на голову.
За время службы меня несколько раз отправляли в Киев в командировки лишь по одной причине — я не бухал. Наши офицеры ездили на год в Сомали в качестве так называемых военных специалистов. Папки с их делами нужно было отвозить в штаб армии. Однажды отправили какого-то кадра, он забухал в поезде, его нашли через четыре дня в бессознательном состоянии в Белой Церкви. Документы он не потерял, но всё равно был жуткий скандал, получивший название «февральские события». Когда впервые послали с документами меня, старослужащие научили: «Приезжаешь в Киев — ни домой, никуда. Чистишь сапоги, подшиваешь свежий воротничок, строевым шагом проходишь в кабинет полковника Котикова, там докладываешь по форме «Сержант Коган прибыл, за время следования замечаний не имел» и увидишь, что будет». Я сделал, как мне советовали. Котиков посмотрел на меня, говорит: «Орёл! Трое суток дома». А по идее, после того как отдал документы, должен был сразу же ехать обратно в часть.
Я помню фамилии всех ребят, с которыми служил, командиров. У нас был потрясающий замполит полка — капитан Эль. Все думали, что он умеет только красиво говорить, но однажды Эль поразил, показав на учениях, что такое стрельба по-македонски: хаотично прыгая в разные стороны и стреляя с двух рук из пистолетов, он попадал только по рукам и ногам мишеней. А Женя Рева рисовал на листах ватмана плакаты — Майлза Девиса, Рона Картера, The Beatles. Два парня с Урала — Гена Гугнин и Саша Колчеданцев, которые на гражданке были комбайнёрами, научили бережному отношению к хлебу. Садясь завтракать, они доставали белоснежные носовые платки — это в армии-то! — клали на них хлеб, когда доедали, смахивали с платков крошки в ладошку и отправляли их в рот — они знали цену хлебу. Самое трогательное, что когда грянул Чернобыль, первыми мне звонили ребята из роты, предлагали приютить мою семью.
Я чуть не остался в армии навсегда: в сентябре 1977 года во время учений на Гончаровском танковом полигоне в Черниговской области попал в катастрофу: загорелась боевая машина пехоты, в которой я находился. Оказалось, что в агрегатном отсеке лежал станок для намотки кабеля, а кто-то не закрутил один бак с дизельным топливом, в результате произошло короткое замыкание, за ним последовала вспышка. Меня вытащил мой армейский друг Игорь Куликов, мы до сих пор дружим, он спас мне жизнь.
За мной 11 сентября приехал отец — довольно известный медик, чтобы отвезти в киевский госпиталь. Мы ехали в «москвиче», стояла страшная жара. Я сказал, что мне очень жарко, батя остановился в Семиполках, где был большой базар, посадил под деревом. Торгующие бабушки, увидев солдатика с мордой чёрного цвета и перевязанными руками, подносили творожок, какие-то фрукты, задавали один вопрос: «Сыночек, что с тобой?» Никогда этого не забуду.
Я получил ожоги второй-третьей степени рук и лица, очень долго лежал в ожоговом центре госпиталя. О бас-гитаре пришлось забыть, руки не работали. Лишь спустя 36 лет вернулся к ней, да и то не могу сказать, что играю, так — поигрываю. Помните фильм «Экипаж»? У меня было такое же лицо и руки, как у героев картины после того, как они залатали дыру в самолёте.
Лицо мне сохранил полковник Вячеслав Павлович Губенко — сын Остапа Вишни. Больше всего запомнилось, как он делал перевязки: выносил тазик с марганцовкой и говорил: «Давай, сынок, сам снимай бинты, позовёшь, как справишься». Это чистая психология: когда тебе даже самая нежная сестричка снимает бинты, жутко больно, а если действуешь сам, боль не такая сильная.
Со мной в палате лежал 19-летний мальчик из Кишинёва Андрей Мардарь, получивший жуткие травмы. Он служил в ракетных войсках. Лопнула шина пусковой установки, и в него угодил колпак от неё. Парня всего поломало, он больше года пролежал в госпитале. Уже после того, как я уволился в запас, ещё месяцев шесть-семь носил ему бульоны. Моя мама познакомилась с его мамой и сёстрами, когда увидела их плачущих в коридоре госпиталя. Им обещали выделить койку, но потом сказали, что нет такой возможности — привезли пострадавших на учениях солдат. Моя мама сказала, что плакать нечего, жить будете у нас. Потом родные Андрея несколько раз у нас останавливались, весь балкон заваливали бутылями с вином и ящиками с виноградом. А однажды Андрюша позвонил, говорит: «Я женюсь». Я уже работал, был страшно занят, на свадьбу поехали моя жена и мать. И они сидели рядом с женихом и невестой как самые почётные гости. Всё это тоже армейская история.
Армейских сувениров практически не сохранилось. У меня даже дембельского альбома не было, я привёз свои фотографии перевязанными верёвочкой. Где-то висит в шкафу китель со значками и погонами старшего сержанта. Ремень и фуражку, на которой написано «сержант Коган», я в середине 1990-х подарил знаменитому американскому джаз-роковому барабанщику Джоэлу Тейлору, он коллекционирует военную форму. Из того, что действительно важно, сохранил письма своей будущей жены.

В середине 1990-х в Днепропетровске проходил джазовый фестиваль, и я решил зайти в свою часть. Как раз был день открытых дверей — бойцы принимали присягу. Посмотрел на высокое дерево, которое когда-то сажал, — седьмое слева возле казармы второй роты. В части ничего не изменилось, было только одно отличие: на трибуне рядом с командирами стоял священник.
Я рад, что служил в армии, не знаю, правда, горжусь ли этим. Армия научила постоять за себя, помогла понять, что такое настоящая мужская дружба, научила ценить отношение ко мне близких людей. После ожогов, когда положение казалось совершенно безвыходным — музыкантом мне уже не суждено было стать, она заставила меня поверить в то, что можно изменить свою жизнь. В армии было столько всего и грустного, и весёлого. Недаром говорят: кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.
Я рад, что служил в армии, не знаю, правда, горжусь ли этим. Армия научила постоять за себя, помогла понять, что такое настоящая мужская дружба, научила ценить отношение ко мне близких людей. После ожогов, когда положение казалось совершенно безвыходным — музыкантом мне уже не суждено было стать, она заставила меня поверить в то, что можно изменить свою жизнь. В армии было столько всего и грустного, и весёлого. Недаром говорят: кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.
Пепельница
Сергей Кушнарёв (59 лет),
офицер запаса
офицер запаса

Пепельница
Сергей Кушнарёв (59 лет), офицер запаса
У меня на кухне стоит пепельница. Сделана она из вещи, о которой мечтал каждый ракетчик, это заглушка выхлопной трубы турбонасосного агрегата оперативно-тактической ракеты с головной частью в специальном снаряжении. Я сам выкрутил её перед пуском ракеты на госполигоне в Казахстане. На тыльной стороне есть дата 18.05.1990, серийный номер носителя.
Пуски таких ракет проводились раз в два года. И шесть батарей боролись между собой за право поехать в Казахстан. Это было чем-то невероятным, это, наверное, можно сравнить с подготовкой спортсменов к олимпиаде — месяцы непрерывного труда, пота, слёз и крови. Мой месяц старшего лейтенанта выглядел так: 7 дней жизни в учебном центре (обучение, боевое слаживание); 2–3 дня на то, чтобы подвести итоги и привести технику в порядок; 3–4 наряда; 3 дня подготовки к убытию в учебный центр, и до конца месяца я там. С утра до вечера ты читаешь техническую литературу, работаешь на тренажёрах. И так каждый месяц, кроме отпуска.
Самым жёстким наказанием для бойца были слова офицера: «Вы, товарищ, плохо к службе относитесь. Мы будем рассматривать вариант, при котором возьмём на госполигон другого». Представьте, столько готовиться, и всё впустую.
В том же 1990 году за два дня до отъезда на полигон я на тренировке в спортзале ломаю два ребра. Начмед осматривает меня, говорит: «Я вас не пущу». Понимаю, что он прав, но у меня слёзы потекли. Как это, моя батарея едет, а комбат — нет? У комбриага от этой новости тоже глаза сильно округлились, но меня он успокоил: «Я переговорю с начмедом, у тебя будет не перелом, а ушиб или трещина. Так что держись». Так я с переломами и поехал.
Ты в окопе, в 80–100 метрах от пусковой установки, жуткий рокот и гул. Поднимается оранжевое пятно окислителя, и мы все в противогазах, чтобы не получить отёк лёгких. Ты понимаешь, что этот момент — венец двух лет подготовки. Бойцы намазываются сажей, чтобы все видели, что именно они пускали. Потом два дня её не смывают, и они герои. Ты им ничего не говоришь, потому что и сам чувствуешь то же самое. А зам по вооружению предлагает за эту заглушку выхлопной трубы турбонасосного агрегата 10 литров спирта.
Честь пуска ракеты — это было что-то невероятное. После него бойцы едут в отпуск. На девять офицеров батареи, которая пустила, дают четыре «открытки» на машины («открытки с военторга», тогда же был дефицит — деньги у всех есть, а купить нельзя ничего). И ты приезжаешь из Казахстана в Белую Церковь, потом едешь в Чернигов и получаешь там ВАЗ-2106. Плюс путёвки, госнаграды.
У меня при выполнении задачи возникла аварийная ситуация. Ракета чуть задержалась на пусковом столе, загорелись кабели. Все кинулись тушить, и двое получили небольшие ожоги. Один боец был представлен к медали «За отвагу», другой к медали «За отличие в воинской службе». Старший сержант Жумамбеков (командир стартового отделения) носил медаль днём и ночью. Он всегда был в центре внимания, такая награда в мирное время — это нечто непередаваемое. Один раз он даже генералу рассказывал о том, как её получил. У нас была комиссия, увидели эту медаль: «Товарищ старший сержант, подойдите. Откуда у вас такая награда высокая?» А после пуска прошло уже какое-то время, рассказ о пожаре успел обрасти дикими подробностями о литрах пролитой крови. Но он рассказывал так убедительно, что генерал с открытым ртом его слушал.
По уставу ходить с медалью нельзя, нужно носить планку. Но сколько Жумамбекова за ней в военторг ни посылали, он всегда возвращался со словами: «Закончились». В итоге её купил кто-то из офицеров. Грустный сержант пришёл ко мне со словами: «Положите медаль в сейф, сохраните её до дембеля».
Думали ли мы тогда о том, что это ракеты не только для учебных пусков? На территории Киевского военного округа было восемь ракетных бригад. В каждой по 12 пусковых установок, это 96 ракет с ядерным снаряжением. Ими должны были наноситься удары по Европе, по блоку НАТО. И затем, через неделю, наша пехота должна была дойти до Ла-Манша. Сейчас волосы от такого дыбом, а тогда это было нормально. Все рассуждали: «Мы не просто так будем наносить удары и наступать, а после того как противник развяжет боевые действия». И так же думали с той стороны, там тоже были ракетные комплексы с ядерными головными частями. А сейчас напоминание о той боевой мощи стоит на кухне как пепельница.
Пуски таких ракет проводились раз в два года. И шесть батарей боролись между собой за право поехать в Казахстан. Это было чем-то невероятным, это, наверное, можно сравнить с подготовкой спортсменов к олимпиаде — месяцы непрерывного труда, пота, слёз и крови. Мой месяц старшего лейтенанта выглядел так: 7 дней жизни в учебном центре (обучение, боевое слаживание); 2–3 дня на то, чтобы подвести итоги и привести технику в порядок; 3–4 наряда; 3 дня подготовки к убытию в учебный центр, и до конца месяца я там. С утра до вечера ты читаешь техническую литературу, работаешь на тренажёрах. И так каждый месяц, кроме отпуска.
Самым жёстким наказанием для бойца были слова офицера: «Вы, товарищ, плохо к службе относитесь. Мы будем рассматривать вариант, при котором возьмём на госполигон другого». Представьте, столько готовиться, и всё впустую.
В том же 1990 году за два дня до отъезда на полигон я на тренировке в спортзале ломаю два ребра. Начмед осматривает меня, говорит: «Я вас не пущу». Понимаю, что он прав, но у меня слёзы потекли. Как это, моя батарея едет, а комбат — нет? У комбриага от этой новости тоже глаза сильно округлились, но меня он успокоил: «Я переговорю с начмедом, у тебя будет не перелом, а ушиб или трещина. Так что держись». Так я с переломами и поехал.
Ты в окопе, в 80–100 метрах от пусковой установки, жуткий рокот и гул. Поднимается оранжевое пятно окислителя, и мы все в противогазах, чтобы не получить отёк лёгких. Ты понимаешь, что этот момент — венец двух лет подготовки. Бойцы намазываются сажей, чтобы все видели, что именно они пускали. Потом два дня её не смывают, и они герои. Ты им ничего не говоришь, потому что и сам чувствуешь то же самое. А зам по вооружению предлагает за эту заглушку выхлопной трубы турбонасосного агрегата 10 литров спирта.
Честь пуска ракеты — это было что-то невероятное. После него бойцы едут в отпуск. На девять офицеров батареи, которая пустила, дают четыре «открытки» на машины («открытки с военторга», тогда же был дефицит — деньги у всех есть, а купить нельзя ничего). И ты приезжаешь из Казахстана в Белую Церковь, потом едешь в Чернигов и получаешь там ВАЗ-2106. Плюс путёвки, госнаграды.
У меня при выполнении задачи возникла аварийная ситуация. Ракета чуть задержалась на пусковом столе, загорелись кабели. Все кинулись тушить, и двое получили небольшие ожоги. Один боец был представлен к медали «За отвагу», другой к медали «За отличие в воинской службе». Старший сержант Жумамбеков (командир стартового отделения) носил медаль днём и ночью. Он всегда был в центре внимания, такая награда в мирное время — это нечто непередаваемое. Один раз он даже генералу рассказывал о том, как её получил. У нас была комиссия, увидели эту медаль: «Товарищ старший сержант, подойдите. Откуда у вас такая награда высокая?» А после пуска прошло уже какое-то время, рассказ о пожаре успел обрасти дикими подробностями о литрах пролитой крови. Но он рассказывал так убедительно, что генерал с открытым ртом его слушал.
По уставу ходить с медалью нельзя, нужно носить планку. Но сколько Жумамбекова за ней в военторг ни посылали, он всегда возвращался со словами: «Закончились». В итоге её купил кто-то из офицеров. Грустный сержант пришёл ко мне со словами: «Положите медаль в сейф, сохраните её до дембеля».
Думали ли мы тогда о том, что это ракеты не только для учебных пусков? На территории Киевского военного округа было восемь ракетных бригад. В каждой по 12 пусковых установок, это 96 ракет с ядерным снаряжением. Ими должны были наноситься удары по Европе, по блоку НАТО. И затем, через неделю, наша пехота должна была дойти до Ла-Манша. Сейчас волосы от такого дыбом, а тогда это было нормально. Все рассуждали: «Мы не просто так будем наносить удары и наступать, а после того как противник развяжет боевые действия». И так же думали с той стороны, там тоже были ракетные комплексы с ядерными головными частями. А сейчас напоминание о той боевой мощи стоит на кухне как пепельница.
Подготовили: Алексей Батурин, Елена Струк, Влад Абрамов
Фото: Александр Чекменёв, из личных архивов