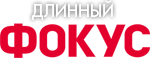Другой театр
Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно

Елена Струк
Журналист
— Давай сыграем в ассоциации? Я говорю слово, ты — первое, что придёт в голову.
Саша кивает. Начали.
Я: Театр?
Саша: Жизнь.
Я: Сцена?
Саша: Дом.
Я: Актёр?
Саша: Работа.
Александру Стешенко 27 лет. В театре он с двенадцати.
«В этом году мы замахнулись на Чехова. Будем ставить «Вишнёвый сад».
Я: Мама?
Саша: Любовь.
«Актерский талант мне передался по материнской линии. Мама в молодости танцевала и играла в любительском театре».
Свою первую роль в кино Саша получил в фильме «Племя» Мирослава Слабошпицкого.
«В кино я играю себя. В театре я могу быть кем угодно».
Я: Роль.
Саша: Гамлет.
Саша кивает. Начали.
Я: Театр?
Саша: Жизнь.
Я: Сцена?
Саша: Дом.
Я: Актёр?
Саша: Работа.
Александру Стешенко 27 лет. В театре он с двенадцати.
«В этом году мы замахнулись на Чехова. Будем ставить «Вишнёвый сад».
Я: Мама?
Саша: Любовь.
«Актерский талант мне передался по материнской линии. Мама в молодости танцевала и играла в любительском театре».
Свою первую роль в кино Саша получил в фильме «Племя» Мирослава Слабошпицкого.
«В кино я играю себя. В театре я могу быть кем угодно».
Я: Роль.
Саша: Гамлет.
Быть или не быть

Александр Стешенко играет в театре «Паростки» с 12 лет
Саша ведёт меня по узкому коридору центра «Сонячний промінь». На стене с одной стороны — портреты актёров, с другой — дипломы за участие в театральных конкурсах.
«Наша аллея славы», — улыбается он. Коридор заканчивается плотно прикрытой дверью. Из-за неё доносятся голоса.
Дверь открывается, и в офис влетает женщина в коротких бриджах и на высоких каблуках.
— Ну что тут, показывайте! — командным тоном говорит она.
За полчаса до прихода гостьи Евгении Стешенко, маме Саши, а по совместительству директору «Сонячного проміня» позвонила коллега:
— Давай быстро в центр. К нам едет Ирена Кильчицкая, она теперь курирует социалку в городе. И запомни, Ирена, а не Ирина и Реонольдовна, а не Леопольдовна.
— Как тебя зовут? — Саша спрашивает молодую женщину на высоких каблуках.
— Ирена. А что ты делаешь?
— Разве не видишь? За компьютером сижу, песни пишу, стихи сочиняю.
— Саша так убедительно говорил. Я и сама поверила, что он песни пишет, — смеётся Евгения, вспоминая эпизод, который произошёл в 2006 году.
— А я поверил, что могу быть хорошим актёром, — серьёзно говорит Саша.
После этого визита город выделил организации деньги на строительство театральной студии — небольшой пристройки к уже существовавшему помещению. Мама и сын шутят, что всё это благодаря актёрскому таланту Саши. «Которое мне передалось с мамиными генами», — неизменно добавляет он.
«Наша аллея славы», — улыбается он. Коридор заканчивается плотно прикрытой дверью. Из-за неё доносятся голоса.
Дверь открывается, и в офис влетает женщина в коротких бриджах и на высоких каблуках.
— Ну что тут, показывайте! — командным тоном говорит она.
За полчаса до прихода гостьи Евгении Стешенко, маме Саши, а по совместительству директору «Сонячного проміня» позвонила коллега:
— Давай быстро в центр. К нам едет Ирена Кильчицкая, она теперь курирует социалку в городе. И запомни, Ирена, а не Ирина и Реонольдовна, а не Леопольдовна.
— Как тебя зовут? — Саша спрашивает молодую женщину на высоких каблуках.
— Ирена. А что ты делаешь?
— Разве не видишь? За компьютером сижу, песни пишу, стихи сочиняю.
— Саша так убедительно говорил. Я и сама поверила, что он песни пишет, — смеётся Евгения, вспоминая эпизод, который произошёл в 2006 году.
— А я поверил, что могу быть хорошим актёром, — серьёзно говорит Саша.
После этого визита город выделил организации деньги на строительство театральной студии — небольшой пристройки к уже существовавшему помещению. Мама и сын шутят, что всё это благодаря актёрскому таланту Саши. «Которое мне передалось с мамиными генами», — неизменно добавляет он.
За плотно прикрытой дверью в конце «аллеи славы» сцена с чёрным занавесом.
— В работе я, как лев, как чёрт, как сатана! — с каждым словом Саша всё больше наклоняется вперёд.
Закончив фразу, он с торжествующим видом откидывается на спинку стула.
— Театр даёт мне свободу, — добавляет он.
Белый фрак, белый цилиндр и трость. Саша на сцене степенно выхаживает. Останавливается, опирается на трость и задумчиво произносит.
— Я самый умный кролик.
— Почему?
— Потому что ношу очки.
В зале смех. На сцене народный любительский театр «Паростки». В Киеве проходит театральная лаборатория Holidays in Kiev.
— Я надеюсь, что когда-то сыграю Гамлета, — говорит мне Саша.
— А что отличает хорошего актёра от плохого? — спрашиваю у него.
— Хороший актёр постоянно развивается. Плохой пусть дома сидит.
— Ты хороший актёр?
— Когда как, — вставляет Евгения, пока Саша раздумывал над ответом. — Плохо слова выговариваешь, не стараешься. Получается «столь», «стуль», «истолия».
— Да, ма. Ты права, — со вздохом признаёт он.
Театрально роняет руку на стол и опускает голову. С момента моего прихода Саша не выходит из образа.
— Я хочу славы.
— Что она тебе даст?
— Всё! Во-первых, это финансовая независимость. Мне нужна свобода. Не буду кривить душой, я бы хотел жить сам. Куплю дом в Беларуси. Ты была в Беларуси? Мне там очень нравится. Но сначала куплю дом в Украине. Женюсь. У меня будет семья. Сбудутся все мои мечты. Я хочу попасть в топ-10 самых известных холостяков. Напиши это, не забудь, — строго говорит Саша, показывая на блокнот с ручкой.
— Он — эпатажный, — смеётся Виталий Любота, художественный руководитель театра «Паростки». — Помню, как после спектакля к Саше подошли журналисты, а он: «Вы хотите спросить у меня про синдром Дауна?»
Я могу представить себе эту сцену. Он сидит в кресле, сложив руки на груди и откинув голову назад. Чуть насмешливо смотрит сквозь очки на задающего вопрос. «Да, я Даун. В жизни вы бы меня гоняли, как собаку. А тут знаете, сколько у меня фанаток?»
— В работе я, как лев, как чёрт, как сатана! — с каждым словом Саша всё больше наклоняется вперёд.
Закончив фразу, он с торжествующим видом откидывается на спинку стула.
— Театр даёт мне свободу, — добавляет он.
Белый фрак, белый цилиндр и трость. Саша на сцене степенно выхаживает. Останавливается, опирается на трость и задумчиво произносит.
— Я самый умный кролик.
— Почему?
— Потому что ношу очки.
В зале смех. На сцене народный любительский театр «Паростки». В Киеве проходит театральная лаборатория Holidays in Kiev.
— Я надеюсь, что когда-то сыграю Гамлета, — говорит мне Саша.
— А что отличает хорошего актёра от плохого? — спрашиваю у него.
— Хороший актёр постоянно развивается. Плохой пусть дома сидит.
— Ты хороший актёр?
— Когда как, — вставляет Евгения, пока Саша раздумывал над ответом. — Плохо слова выговариваешь, не стараешься. Получается «столь», «стуль», «истолия».
— Да, ма. Ты права, — со вздохом признаёт он.
Театрально роняет руку на стол и опускает голову. С момента моего прихода Саша не выходит из образа.
— Я хочу славы.
— Что она тебе даст?
— Всё! Во-первых, это финансовая независимость. Мне нужна свобода. Не буду кривить душой, я бы хотел жить сам. Куплю дом в Беларуси. Ты была в Беларуси? Мне там очень нравится. Но сначала куплю дом в Украине. Женюсь. У меня будет семья. Сбудутся все мои мечты. Я хочу попасть в топ-10 самых известных холостяков. Напиши это, не забудь, — строго говорит Саша, показывая на блокнот с ручкой.
— Он — эпатажный, — смеётся Виталий Любота, художественный руководитель театра «Паростки». — Помню, как после спектакля к Саше подошли журналисты, а он: «Вы хотите спросить у меня про синдром Дауна?»
Я могу представить себе эту сцену. Он сидит в кресле, сложив руки на груди и откинув голову назад. Чуть насмешливо смотрит сквозь очки на задающего вопрос. «Да, я Даун. В жизни вы бы меня гоняли, как собаку. А тут знаете, сколько у меня фанаток?»
Да здравствует король

Евгения Стешенко: «Меня приглашали в воронежский хор после окончания школы. Но я выбрала химию, хотела быть великим химиком. А стала строителем, сметчиком. И это мне потом очень пригодилось, когда мы создавали реабилитационный центр, проводили театральные фестивали»
Я: Люди?
Саша: Без комментариев.
Изогнутый мизинец. Именно на палец малыша обратила внимание невропатолог из Охматдета, к которой пришла Евгения с сыном. Её, казалось бы, здоровый малыш как-то вдруг обмяк — у него начали атрофироваться ручки и ножки. С этими симптомами его и направили к невропатологу. «Покажитесь генетику», — посоветовала врач. Так Евгения узнала, что у сына синдром Дауна. Мальчику было семь месяцев.
Каждый день к Жене домой приходили коллеги из конструкторского бюро, в котором она проработала 20 лет.
— У нас был дружный коллектив. Мой начальник почему-то решил, что я собираюсь с собой что-то сделать, вот и посылал ко мне людей. Они меня начали даже раздражать. Пришлось объяснить, что ни вешаться, ни топиться я не планирую, — улыбается Евгения. — Да, вначале меня охватил страх, но я любила Сашу. Он долгожданный ребёнок. Я его родила в 41 год. И мне было плевать на то, что говорят врачи.
Сашу она любила, про синдром ничего не знала, поэтому четыре года пыталась сына вылечить. Массажи — перерыв, уколы — перерыв, опять массажи, и так по кругу. Купала в травах, целыми днями гуляла с ним. Когда Саша засыпал, начинала работать — печатала, убирала.
— Помню, прибегаю как-то в офис, «Сонячний промінь» уже работал. На столе лежит брошюрка. Я её прочла. Умирает человек с синдромом Дауна, Бог спрашивает у ангелов: «Кому отдать его душу?» Ангелы отвечают: «Той женщине, она богатая». «Нет, она не справится. Она сама с собой не справляется. С ней рядом няньки ходят. А вон та женщина, как вол тянет. В её семью и отдадим». Как про меня написано. Бог даёт таких детей сильным людям. Столько работ тянула. Спала по три часа в сутки. Но я так хотела этого ребёнка, что мне всё было нипочём.
В год и два месяца Саша пошёл. Только говорить никак не хотел.
Саша с мамой едут в метро. Евгения по привычке «держит дули в карманах», чтобы сына не сглазили. На одной из станций женщина, сидевшая рядом, сует ей бумажку со словами: «Позвоните. Это по поводу вашего мальчика». На бумажке номер телефона.
Евгения не сразу, но всё же позвонит. Так Саша попадёт в коррекционный садик, а потом его педагоги убедят Евгению отдать сына в школу: «Вашему мальчику обязательно нужно ходить в школу».
Поэтому, когда приехала выездная медико-педагогическая комиссия, решавшая, кто из детей может учиться дальше, а кто будет сидеть дома, Евгения примчалась с Сашей на собеседование. Он зашёл в кабинет, со всеми поздоровался за руку.
— Саша, скажи, «стол», «парта», «стул», как это всё называется одним словом?
— Мебель.
— А «обувь», «свитер»?
— Одежда.
— У меня глаза на лоб полезли, — признаётся Евгения. — Мне же врачи говорили, что он необучаемый.
— А если бы не было школы, то что?
— Там его научили писать, читать. В школе он наконец-то разговорился. А я тем временем создавала организацию матерей, у которых дети с синдромом Дауна. Первые десять лет бегала, искала спонсоров. Ремонты, пристройки. Всегда думала, что ведомая по жизни. Но появился Саша, а с ним стимул что-то сделать для него и для таких, как он. Я всё сюда, как в копилку, сбрасывала.
Сюда — это в реабилитационный центр, созданный мамой Саши вместе с другими родителями особенных детей. Евгении повезло — когда родился Саша, старые друзья её не бросили, а новые появились. Рассталась она только с отцом Саши. Сыну тогда исполнилось десять лет.
— Я решила, что так будет лучше. Сказала себе: «Умер король. Да здравствует король!»
— Пока мама не слышит, я вам скажу, — Саша наклоняется вперёд и переходит почти на шёпот. — Он нас бросил. Больно говорить. Я не хочу папу очернять. У него своя жизнь, у нас с мамой своя. Если он меня будет читать, то пусть знает: «Папа, я понимаю тебя, но ты поступил не как мужчина. Извини, если что не так». Это моё ему послание.
Саша: Без комментариев.
Изогнутый мизинец. Именно на палец малыша обратила внимание невропатолог из Охматдета, к которой пришла Евгения с сыном. Её, казалось бы, здоровый малыш как-то вдруг обмяк — у него начали атрофироваться ручки и ножки. С этими симптомами его и направили к невропатологу. «Покажитесь генетику», — посоветовала врач. Так Евгения узнала, что у сына синдром Дауна. Мальчику было семь месяцев.
Каждый день к Жене домой приходили коллеги из конструкторского бюро, в котором она проработала 20 лет.
— У нас был дружный коллектив. Мой начальник почему-то решил, что я собираюсь с собой что-то сделать, вот и посылал ко мне людей. Они меня начали даже раздражать. Пришлось объяснить, что ни вешаться, ни топиться я не планирую, — улыбается Евгения. — Да, вначале меня охватил страх, но я любила Сашу. Он долгожданный ребёнок. Я его родила в 41 год. И мне было плевать на то, что говорят врачи.
Сашу она любила, про синдром ничего не знала, поэтому четыре года пыталась сына вылечить. Массажи — перерыв, уколы — перерыв, опять массажи, и так по кругу. Купала в травах, целыми днями гуляла с ним. Когда Саша засыпал, начинала работать — печатала, убирала.
— Помню, прибегаю как-то в офис, «Сонячний промінь» уже работал. На столе лежит брошюрка. Я её прочла. Умирает человек с синдромом Дауна, Бог спрашивает у ангелов: «Кому отдать его душу?» Ангелы отвечают: «Той женщине, она богатая». «Нет, она не справится. Она сама с собой не справляется. С ней рядом няньки ходят. А вон та женщина, как вол тянет. В её семью и отдадим». Как про меня написано. Бог даёт таких детей сильным людям. Столько работ тянула. Спала по три часа в сутки. Но я так хотела этого ребёнка, что мне всё было нипочём.
В год и два месяца Саша пошёл. Только говорить никак не хотел.
Саша с мамой едут в метро. Евгения по привычке «держит дули в карманах», чтобы сына не сглазили. На одной из станций женщина, сидевшая рядом, сует ей бумажку со словами: «Позвоните. Это по поводу вашего мальчика». На бумажке номер телефона.
Евгения не сразу, но всё же позвонит. Так Саша попадёт в коррекционный садик, а потом его педагоги убедят Евгению отдать сына в школу: «Вашему мальчику обязательно нужно ходить в школу».
Поэтому, когда приехала выездная медико-педагогическая комиссия, решавшая, кто из детей может учиться дальше, а кто будет сидеть дома, Евгения примчалась с Сашей на собеседование. Он зашёл в кабинет, со всеми поздоровался за руку.
— Саша, скажи, «стол», «парта», «стул», как это всё называется одним словом?
— Мебель.
— А «обувь», «свитер»?
— Одежда.
— У меня глаза на лоб полезли, — признаётся Евгения. — Мне же врачи говорили, что он необучаемый.
— А если бы не было школы, то что?
— Там его научили писать, читать. В школе он наконец-то разговорился. А я тем временем создавала организацию матерей, у которых дети с синдромом Дауна. Первые десять лет бегала, искала спонсоров. Ремонты, пристройки. Всегда думала, что ведомая по жизни. Но появился Саша, а с ним стимул что-то сделать для него и для таких, как он. Я всё сюда, как в копилку, сбрасывала.
Сюда — это в реабилитационный центр, созданный мамой Саши вместе с другими родителями особенных детей. Евгении повезло — когда родился Саша, старые друзья её не бросили, а новые появились. Рассталась она только с отцом Саши. Сыну тогда исполнилось десять лет.
— Я решила, что так будет лучше. Сказала себе: «Умер король. Да здравствует король!»
— Пока мама не слышит, я вам скажу, — Саша наклоняется вперёд и переходит почти на шёпот. — Он нас бросил. Больно говорить. Я не хочу папу очернять. У него своя жизнь, у нас с мамой своя. Если он меня будет читать, то пусть знает: «Папа, я понимаю тебя, но ты поступил не как мужчина. Извини, если что не так». Это моё ему послание.
Центр «Сонячний промінь» открылся в 1998 году.
— У нас был проект, под который мы могли получить грант. Но не было помещения. Я обошла всю Оболонь, пока нашла это место, — рассказывает Евгения.
Мы сидим за большим деревянным столом во внутреннем дворе центра. Здесь небольшое озерцо, цветы, малина и даже помидоры — свой особый микроклимат. С одной стороны детский сад, с другой — пенсионный фонд.
— Вот и дети наши, до какого-то периода молодые, а потом резко начинают стареть, — Евгения смотрит куда-то поверх забора, огораживающего территорию.
Помещение давно пустовало и было в полуразрушенном состоянии. Единственным его квартирантом числилась крыса, которую новые жильцы прозвали Анфиской. Она ушла, когда заделывали большую дыру в полу.
Грант в размере $10 тыс. на защиту прав и интересов людей с ограниченными возможностями «Сонячний промінь» получил от фонда «Відродження». В течение года семь семей своими силами делали в помещении ремонт. А потом в центр начали приезжать дети со всего города. Главная идея центра — реабилитация через творчество. А по сути — через театр.
— Мы все здесь работаем на театр, — смеётся Евгения.
Когда она ездила в другие города на семинары и общалась с родителями, её постоянно спрашивали: «Как?» У неё был один ответ.
— Я всегда ассоциирую себя с травой. Идёт путник, наступает на траву, она пригибается, но проходит время и снова выпрямляется, тянется к солнцу.
— А с кем у вас ассоциируется Саша?
— Он и есть Солнце.
Центр работает 19 лет, инклюзивный театр «Паростки» для людей с психофизическими особенностями, созданный при нём, почти столько же. Но помещение со сценой, звукорежиссёрским пультом, костюмерной они могут потерять в любой момент. Долги за коммунальные услуги растут, город больше не хочет их оплачивать. И Евгении нужно, как обычно, бегать по разным инстанциям в поисках поддержки от тех, кто сидит выше.
— Мы так просто не сдадимся. Вы знаете, я же сто лет жить собираюсь, — говорит она.
— Что если театра вдруг не станет? — спрашиваю у Саши.
— Если я потеряю его, дальше пути для меня нет.
— У нас был проект, под который мы могли получить грант. Но не было помещения. Я обошла всю Оболонь, пока нашла это место, — рассказывает Евгения.
Мы сидим за большим деревянным столом во внутреннем дворе центра. Здесь небольшое озерцо, цветы, малина и даже помидоры — свой особый микроклимат. С одной стороны детский сад, с другой — пенсионный фонд.
— Вот и дети наши, до какого-то периода молодые, а потом резко начинают стареть, — Евгения смотрит куда-то поверх забора, огораживающего территорию.
Помещение давно пустовало и было в полуразрушенном состоянии. Единственным его квартирантом числилась крыса, которую новые жильцы прозвали Анфиской. Она ушла, когда заделывали большую дыру в полу.
Грант в размере $10 тыс. на защиту прав и интересов людей с ограниченными возможностями «Сонячний промінь» получил от фонда «Відродження». В течение года семь семей своими силами делали в помещении ремонт. А потом в центр начали приезжать дети со всего города. Главная идея центра — реабилитация через творчество. А по сути — через театр.
— Мы все здесь работаем на театр, — смеётся Евгения.
Когда она ездила в другие города на семинары и общалась с родителями, её постоянно спрашивали: «Как?» У неё был один ответ.
— Я всегда ассоциирую себя с травой. Идёт путник, наступает на траву, она пригибается, но проходит время и снова выпрямляется, тянется к солнцу.
— А с кем у вас ассоциируется Саша?
— Он и есть Солнце.
Центр работает 19 лет, инклюзивный театр «Паростки» для людей с психофизическими особенностями, созданный при нём, почти столько же. Но помещение со сценой, звукорежиссёрским пультом, костюмерной они могут потерять в любой момент. Долги за коммунальные услуги растут, город больше не хочет их оплачивать. И Евгении нужно, как обычно, бегать по разным инстанциям в поисках поддержки от тех, кто сидит выше.
— Мы так просто не сдадимся. Вы знаете, я же сто лет жить собираюсь, — говорит она.
— Что если театра вдруг не станет? — спрашиваю у Саши.
— Если я потеряю его, дальше пути для меня нет.
За кулисами

Виталий Любота: «Моя задача, чтобы зритель забыл об особенностях актёров. Или мы говорим о жалости, или о творчестве. Я даю возможность своим актёрам творить»
Я: Любота?
Саша: Театральный папа. Папа.
Несколько лет назад Сашу заметили киношники. После съёмок в ленте «Племя» он получил вторую роль в фильме «Плен» Анатолия Матешко.
— Опять дурачка играть надо? — Саша в лоб спрашивает Виталия Люботу.
— Да. Зато гонорар получишь. Ты сценарий читал? Твой герой, один из пленных, бежит по полю и подрывается на мине. Он погибает, ты понял?
— Понял. Это же хорошо, что он умирает.
— В смысле?
— Получается, что он вырывается из плена. Он на меня похож. Моя душа в плену у моего лица.
— Другого места в кино у Саши нет? — спрашиваю Виталия.
— Пока что нет. В кинематографе всегда есть потребность в исключительном человеке. И Саша в данном случае и является тем исключительным человеком. Ему тяжело вырваться из этого амплуа. Он «в плену своего лица». Театр же намного шире и даёт больше возможностей.
Виталий Любота, художник и театральный режиссёр, появился в центре «Сонячний промінь» случайно. Собирался задержаться максимум на месяц, чтобы провести фестиваль, но остался на годы.
— Даже не помню, как так вышло. Скорее всего, человек остаётся там, где есть комфорт и ощущение, что ты нужен, — объясняет он. — Они люди без двойного дна, и мне с ними хорошо.
— Ох, я испугался его тогда, — говорит Саша, — он был похож на Бога, спустившегося с небес.
Эффектный брюнет с длинными вьющимися волосами и тёмными глазами произвёл на двенадцатилетнего мальчика неизгладимое впечатление.
— Что за чучело, в первую секунду подумала я, — смеётся Евгения. — Но здесь Виталий нашёл себя, а мы нашли его.
Театр «Паростки» — настоящая лаборатория, где происходит один бесконечный эксперимент. Лаборатории уже удалось доказать, что сцена обладает особыми свойствами.
— Ребята с психофизическими нарушениями, попадая на неё, учатся ощущать себя в пространстве, осознавать своё тело, — объясняет Виталий. — А возникающее чувство комфорта в пространстве облегчает им потом общение с окружающими.
Студийцы Саша, Аня, Сережа, Женя, Варя и другие исследуют себя и мир. Труппа театра постоянно ездит на театральные фестивали.
— Сцена снимает тот психофизический зажим, который не даёт их организму выполнять свои функции. Я ведь не акцентирую внимание на их проблемах, скажем с координацией или речевым аппаратом, — говорит Любота. — Мне важно добиться от них импровизации, достать их «я». Потому что их восприятие отличается от восприятия профессиональных актёров, в которых есть определённый прагматизм. У них его нет. Они играют, как ребёнок, рисующий на пустом листе. Это чистое искусство. А лепить из них, как из пластилина, заготовленные образы мне неинтересно. Моя задача понять стартовые возможности актёра, а их — максимально эффективно использовать эти возможности.
Саша: Театральный папа. Папа.
Несколько лет назад Сашу заметили киношники. После съёмок в ленте «Племя» он получил вторую роль в фильме «Плен» Анатолия Матешко.
— Опять дурачка играть надо? — Саша в лоб спрашивает Виталия Люботу.
— Да. Зато гонорар получишь. Ты сценарий читал? Твой герой, один из пленных, бежит по полю и подрывается на мине. Он погибает, ты понял?
— Понял. Это же хорошо, что он умирает.
— В смысле?
— Получается, что он вырывается из плена. Он на меня похож. Моя душа в плену у моего лица.
— Другого места в кино у Саши нет? — спрашиваю Виталия.
— Пока что нет. В кинематографе всегда есть потребность в исключительном человеке. И Саша в данном случае и является тем исключительным человеком. Ему тяжело вырваться из этого амплуа. Он «в плену своего лица». Театр же намного шире и даёт больше возможностей.
Виталий Любота, художник и театральный режиссёр, появился в центре «Сонячний промінь» случайно. Собирался задержаться максимум на месяц, чтобы провести фестиваль, но остался на годы.
— Даже не помню, как так вышло. Скорее всего, человек остаётся там, где есть комфорт и ощущение, что ты нужен, — объясняет он. — Они люди без двойного дна, и мне с ними хорошо.
— Ох, я испугался его тогда, — говорит Саша, — он был похож на Бога, спустившегося с небес.
Эффектный брюнет с длинными вьющимися волосами и тёмными глазами произвёл на двенадцатилетнего мальчика неизгладимое впечатление.
— Что за чучело, в первую секунду подумала я, — смеётся Евгения. — Но здесь Виталий нашёл себя, а мы нашли его.
Театр «Паростки» — настоящая лаборатория, где происходит один бесконечный эксперимент. Лаборатории уже удалось доказать, что сцена обладает особыми свойствами.
— Ребята с психофизическими нарушениями, попадая на неё, учатся ощущать себя в пространстве, осознавать своё тело, — объясняет Виталий. — А возникающее чувство комфорта в пространстве облегчает им потом общение с окружающими.
Студийцы Саша, Аня, Сережа, Женя, Варя и другие исследуют себя и мир. Труппа театра постоянно ездит на театральные фестивали.
— Сцена снимает тот психофизический зажим, который не даёт их организму выполнять свои функции. Я ведь не акцентирую внимание на их проблемах, скажем с координацией или речевым аппаратом, — говорит Любота. — Мне важно добиться от них импровизации, достать их «я». Потому что их восприятие отличается от восприятия профессиональных актёров, в которых есть определённый прагматизм. У них его нет. Они играют, как ребёнок, рисующий на пустом листе. Это чистое искусство. А лепить из них, как из пластилина, заготовленные образы мне неинтересно. Моя задача понять стартовые возможности актёра, а их — максимально эффективно использовать эти возможности.
И актёры, и режиссёр учатся друг у друга. Саша тоже учил Люботу искать способы существования актёра с особенностями в пространстве. Одна из первых ролей на театральной сцене у Саши была немногословной. «Чай, кофе, капучино» — весь его текст. Но именно она принесла ему первые призы на международных фестивалях.
Это был спектакль «Добрый Хортон» по сказке доктора Сьюза про слона, высиживавшего яйцо, из которого вместо птенца вылупился слонёнок с крылышками. У Саши не получалось повторять длинные предложения из-за проблем с речью. Спектакль же был построен на тексте, и Любота никак не мог найти роль для маленького актёра. Пока маленький актёр не придумал её сам.
— Я буду играть вот этого, — громко крикнул двенадцатилетний Саша своему наставнику, когда они проходили через рынок.
— Кого этого?
Саша показал на человека с тележкой, обходившего ряды и монотонно повторяющего: «Чай, кофе, капучино». Так в пьесе появился новый персонаж.
— Это было прозрение. Саша понимал предложенные обстоятельства в пьесе, понимал, какие там могут быть образы и как вписаться в драматургию! У него в спектакле была одна единственная фраза: «Чай, кофе, капучино». А когда мы давали представление в ГИТИСе в Москве, он добавил в нее слово «сало», — смеётся Виталий. — Саша сам придумал движения: когда сердился, то злостно вытирал стаканчики. У него получился довольно интересный образ.
Виталий Любота понял, как нужно работать: «Пять-десять минут, и вы забудете, кто играет на сцене, вы будете смотреть, как они играют». Добиться этого эффекта и есть его главная цель.
— Мы много лет ищем то, на чём должен базироваться особенный театр. Должен ли зритель чувствовать, ах какие они богатыри, смелые, отчаянные, несмотря ни на что показывают нам, «обычным» людям, как жить?
— И какой ваш ответ на этот вопрос?
— Однажды меня пригласили в жюри оценивать постановки любительских театров. Была сказка, в которой короля играл парень без ноги на костылях. Я тогда спросил режиссёра: «Почему вы сделали короля с этими смешными локонами? Он же без ноги. Ваша задача вымыслить его образ так, чтобы актёр вписался в сцену». Это же не кунсткамера с убогими и несчастными.
К нам подходит Саша, делая вид, что что-то ищет. Сегодня маска самоуверенного мачо осталась где-то в костюмерной, а передо мной уже другой Саша — тихий, напоминающий ребёнка, который ожидает реакцию отца на какую-то свою шалость. Любота тем временем продолжает:
— Короли могут быть разными — сопливыми, нервными, злыми, добрыми, смелыми. Ребята показывали счастливое королевство, где король построил хорошую жизнь. Достаточно было добавить ему ленту с орденами, саблю, одежду, походящую для воинственного короля, который в борьбе за счастье своего королевства потерял ногу. Всё по-другому воспринималось бы. Мой ответ на ваш вопрос такой: или мы говорим о жалости, или о творчестве. Я даю возможность своим актёрам творить.
А зрителям он даёт возможность наблюдать результат этого творчества. Ведь по большому счёту никто не знает возможностей особенных людей. Порой даже родители. Зато все знают, что они не могут.
— Мне, кстати, с родителями тяжелее всего работать, — Виталий кивает в сторону мам, копающихся на грядках во дворе. — Есть у них какое-то чувство вины перед детьми, а из-за него чрезмерная жертвенность: «всё для ребёнка сделаю». В итоге детей слишком опекают и при этом не слишком верят в них. Самостоятельными им быть в этом мире не всегда удаётся и не всегда позволено.
В этом смысле актёры театра «Паростки» — особенные. Не потому что они как-то отличаются от общепринятых «норм», а потому что у них есть тот исключительный шанс освободить душу из плена лица.
— Саша, зачем вообще нужен театр?
— Наверное, чтобы было больше понимания.
— Понимание и труд всё перетрут, — к нам подбегает худенький мальчишка лет двенадцати.
— Лучше смеяться, а не злиться, — улыбается он и убегает.
Я: Страх?
Саша: Его нет.
Это был спектакль «Добрый Хортон» по сказке доктора Сьюза про слона, высиживавшего яйцо, из которого вместо птенца вылупился слонёнок с крылышками. У Саши не получалось повторять длинные предложения из-за проблем с речью. Спектакль же был построен на тексте, и Любота никак не мог найти роль для маленького актёра. Пока маленький актёр не придумал её сам.
— Я буду играть вот этого, — громко крикнул двенадцатилетний Саша своему наставнику, когда они проходили через рынок.
— Кого этого?
Саша показал на человека с тележкой, обходившего ряды и монотонно повторяющего: «Чай, кофе, капучино». Так в пьесе появился новый персонаж.
— Это было прозрение. Саша понимал предложенные обстоятельства в пьесе, понимал, какие там могут быть образы и как вписаться в драматургию! У него в спектакле была одна единственная фраза: «Чай, кофе, капучино». А когда мы давали представление в ГИТИСе в Москве, он добавил в нее слово «сало», — смеётся Виталий. — Саша сам придумал движения: когда сердился, то злостно вытирал стаканчики. У него получился довольно интересный образ.
Виталий Любота понял, как нужно работать: «Пять-десять минут, и вы забудете, кто играет на сцене, вы будете смотреть, как они играют». Добиться этого эффекта и есть его главная цель.
— Мы много лет ищем то, на чём должен базироваться особенный театр. Должен ли зритель чувствовать, ах какие они богатыри, смелые, отчаянные, несмотря ни на что показывают нам, «обычным» людям, как жить?
— И какой ваш ответ на этот вопрос?
— Однажды меня пригласили в жюри оценивать постановки любительских театров. Была сказка, в которой короля играл парень без ноги на костылях. Я тогда спросил режиссёра: «Почему вы сделали короля с этими смешными локонами? Он же без ноги. Ваша задача вымыслить его образ так, чтобы актёр вписался в сцену». Это же не кунсткамера с убогими и несчастными.
К нам подходит Саша, делая вид, что что-то ищет. Сегодня маска самоуверенного мачо осталась где-то в костюмерной, а передо мной уже другой Саша — тихий, напоминающий ребёнка, который ожидает реакцию отца на какую-то свою шалость. Любота тем временем продолжает:
— Короли могут быть разными — сопливыми, нервными, злыми, добрыми, смелыми. Ребята показывали счастливое королевство, где король построил хорошую жизнь. Достаточно было добавить ему ленту с орденами, саблю, одежду, походящую для воинственного короля, который в борьбе за счастье своего королевства потерял ногу. Всё по-другому воспринималось бы. Мой ответ на ваш вопрос такой: или мы говорим о жалости, или о творчестве. Я даю возможность своим актёрам творить.
А зрителям он даёт возможность наблюдать результат этого творчества. Ведь по большому счёту никто не знает возможностей особенных людей. Порой даже родители. Зато все знают, что они не могут.
— Мне, кстати, с родителями тяжелее всего работать, — Виталий кивает в сторону мам, копающихся на грядках во дворе. — Есть у них какое-то чувство вины перед детьми, а из-за него чрезмерная жертвенность: «всё для ребёнка сделаю». В итоге детей слишком опекают и при этом не слишком верят в них. Самостоятельными им быть в этом мире не всегда удаётся и не всегда позволено.
В этом смысле актёры театра «Паростки» — особенные. Не потому что они как-то отличаются от общепринятых «норм», а потому что у них есть тот исключительный шанс освободить душу из плена лица.
— Саша, зачем вообще нужен театр?
— Наверное, чтобы было больше понимания.
— Понимание и труд всё перетрут, — к нам подбегает худенький мальчишка лет двенадцати.
— Лучше смеяться, а не злиться, — улыбается он и убегает.
Я: Страх?
Саша: Его нет.
Фото: Андрей Ломакин