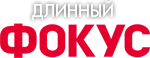ГОРОД ДЕТСТВА
Херсон в летнюю ночь
Сегодня Херсон стал настоящим пограничным городом, где сливаются небо с землей и заканчивают свой путь к последнему морю скоростные поезда


Роман Юсипей
Автор
Когда в нашем мире существовала террористическая социальная сеть «Одноклассники», жить было веселее. Выкладывались фото, на которых за изгородью пиний и толпами многочисленных отпрысков можно было разглядеть бывших сокурсниц. Люди делились рецептами солений. Временами происходили поистине удивительные вещи. Однажды как раз в тот момент, когда я обсуждал с недавно найденным в Сети двоюродным братом, ныне участковым одного из районных центров, модель его табельного оружия и поголовье скота, ко мне в личку постучалась слава. Она представилась сотрудницей Херсонской областной библиотеки. Её послание гласило:
«Добрый день, Роман! Я сейчас заканчиваю справочник о людях, которые чего-то добились в жизни и родом из Херсона. Все данные о вас я взяла в интернете. Не хватает только вашего отчества. Откликнитесь поскорее, пожалуйста».
«Добрый день, Роман! Я сейчас заканчиваю справочник о людях, которые чего-то добились в жизни и родом из Херсона. Все данные о вас я взяла в интернете. Не хватает только вашего отчества. Откликнитесь поскорее, пожалуйста».

Пока я, обольщённый и обласканный, переводил дыхание, «Одноклассники», а вместе с ними возможность обратной связи с прихотливой фортуной были заблокированы. Немало погоревав, я решил доверить тайну своего отчества, а заодно и остальных перипетий моей жизни этому тексту. Во мне не гаснет надежда, что его прочтут сотрудницы областных библиотек.
28 июня на скамейке возле Дуба в парке имени Ленина сидел мальчик и читал книгу. Мимо шла девочка, забрала книгу и отправилась дальше. Плача, мальчик пошёл вслед за ней.

По воспоминаниям родителей, в детстве я всем представлялся как Нома Попей. А про отца говорил, что он у меня Викторыч Анатоливач. В 1970-е вся страна пела песню про матроса-партизана Железняка: «Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону». Мои родители, выпускники Одесского политехнического института, сочли этот исторический пример достойным подражания и без долгих раздумий поехали работать на Херсонский судостроительный завод. По их словам, в городе тогда были настоящие кисельные берега, молочные реки и ряды с мясом. Мне больше запомнилось наше четырёхэтажное общежитие с длинным коридором и отсутствием горячей воды.
Там в четыре года я родил свой первый (и пока единственный) афоризм: «Я живу на улице Пугачёва, а Пугачёва живёт на улице». Впрочем, с песенным арсеналом советской певицы я был тогда знаком довольно поверхностно. Куда ближе мне было творчество трио Мареничей. Почти ежевечерне я просил родителей ставить их пластинку и тихонько грустил под аккомпанемент соловьиного «Тьох-тьох-тьох, від тьох-тьох-тьох». Порой мне кажется, что я до мельчайших деталей помню триумфальные гастроли Мареничей в Херсоне. Мама, правда, утверждает, что этого быть не может, так как концерт состоялся задолго до моего рождения.
Там в четыре года я родил свой первый (и пока единственный) афоризм: «Я живу на улице Пугачёва, а Пугачёва живёт на улице». Впрочем, с песенным арсеналом советской певицы я был тогда знаком довольно поверхностно. Куда ближе мне было творчество трио Мареничей. Почти ежевечерне я просил родителей ставить их пластинку и тихонько грустил под аккомпанемент соловьиного «Тьох-тьох-тьох, від тьох-тьох-тьох». Порой мне кажется, что я до мельчайших деталей помню триумфальные гастроли Мареничей в Херсоне. Мама, правда, утверждает, что этого быть не может, так как концерт состоялся задолго до моего рождения.

Признаться, до моего появления на свет в Херсоне произошло немало других удивительных событий. Например, в филармонии, тогда ещё не сгоревшей на пару с кинотеатром «Коминтерн», выступал знаменитый скрипач Гидон Кремер. Я счёл это отличным поводом для знакомства, когда в 1998 году маэстро со свежесозданным оркестром «Кремерата Балтика» представил Киеву «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Наш диалог начался на четвёртом этаже консерватории. Маэстро, вспоминая Херсон, ослепительно улыбался и неумолимо отступал по лестнице к выходу. Спустя годы я так же неумолимо продолжаю его настигать, засыпая вопросами о родном городе. Временами они даже превращаются в интервью.
28 мая в реке Верёвчина (в народе Вонючка) был зафиксирован массовый мор карасей длиной 5-10 сантиметров. Официальная версия — в воде был недостаток кислорода. Версия редакции: в воде был недостаток воды.

Свою первую любовь я повстречал в детском саду «Кораблик». К нашей няне часто заходила в гости её дочка Нюра, которая была старше меня на восемь лет. Во время одного из визитов, почувствовав, что сильно её люблю, я разогнался, с воплем запрыгнул к ней на руки и поцеловал. Сопротивления мне оказано не было, что убедило в глубокой перспективности раз и навсегда выбранного мною метода объяснений с противоположным полом. В следующий раз я повстречал Нюру уже в школе. Она была комсомолкой, я ещё не стал октябрёнком. Между нами пролегла пропасть...
Между тем, я рос и гордился своим городом. Каждое воскресенье умолял родителей отвести меня в Центральный парк имени Ленина, где стоял дуб, посаженный бабушкой Пушкина, женой губернатора Ганнибала: легендарного арапа, покорителя римлян и ягнят. На центральной пешеходной улице со сноровкой следопыта я мог показать дом, который собственноручно построил Суворов. С криками восторга мною была встречена новость о том, что в Херсоне задолго до печальных событий на реке Урал лечился унтер-офицер Первой мировой Василий Иванович Чапаев. Спустя много лет по фото в учебниках его опознала бывшая сестра милосердия императорского военного госпиталя. Одновременно за тысячи километров от меня ликовал тогда ещё малоизвестный Виктор Пелевин. Литературоведы до сих пор выдвигают версии о херсонских истоках его романа «Чапаев и пустота».
Намертво усвоив правила этикета, я снимал шапку, входя в общественный транспорт, и делал строгие замечания водителям, разговаривавшим во время движения. Кричал яростное «ура!» на первомайских демонстрациях вдоль проспекта Ушакова и подолгу беседовал с гномиками во дворе областной поликлиники. Срывал невесомые одуванчики и, терпеливо выжидая, сидел на скамейке мудрости в парке имени Ленинского комсомола. На этом месте можно было загадывать желания. Однажды после одного из таких сидений мне приснилось, что в старом доме на переулке Козацком, который недалеко от железнодорожного вокзала, находится окно в Париж.
Однако сильнее окна в Европу и пуще зиявшего пустотой гроба Потёмкина в Екатерининском соборе меня волновали солнечные часы, вмонтированные в памятник врачу Джону Говарду. Посмотреть, как они показывают время, мне, правда, никогда не удавалось. Рядом строился городской дворец культуры, и памятник с часами долгие годы был окружен высоким зелёным забором. Оставалось ждать завершения долгостроя и гордиться тем, что известный английский филантроп, всю жизнь боровшийся за права заключённых, умер от чумы именно в моём замечательном городе.
Тем временем мы получили квартиру на Карантинном острове. Не ищите здесь скрытых намёков на лишение свободы или эпидемию. Напротив, это был самый экологически чистый район, с развитой инфраструктурой и славной историей. Помните двенадцать мальчишек с Карантинного? Я верю, что хроника их подвигов наряду с жизнеописаниями Мамлакат Наханговой и Чарвы Аннаярова были вашими любимыми страницами из книги «Дети-герои».
Появлялись на Острове и другие знаменитости. В гостинице «Бригантина» местные жители как-то нашли живого Михаила Жванецкого и повлекли его за собой на празднование 25-летия микрорайона. «Что я могу вам сказать? — мудрствовал перед камерой сатирик. — Прожили двадцать пять, проживём ещё столько же».
Между тем, я рос и гордился своим городом. Каждое воскресенье умолял родителей отвести меня в Центральный парк имени Ленина, где стоял дуб, посаженный бабушкой Пушкина, женой губернатора Ганнибала: легендарного арапа, покорителя римлян и ягнят. На центральной пешеходной улице со сноровкой следопыта я мог показать дом, который собственноручно построил Суворов. С криками восторга мною была встречена новость о том, что в Херсоне задолго до печальных событий на реке Урал лечился унтер-офицер Первой мировой Василий Иванович Чапаев. Спустя много лет по фото в учебниках его опознала бывшая сестра милосердия императорского военного госпиталя. Одновременно за тысячи километров от меня ликовал тогда ещё малоизвестный Виктор Пелевин. Литературоведы до сих пор выдвигают версии о херсонских истоках его романа «Чапаев и пустота».
Намертво усвоив правила этикета, я снимал шапку, входя в общественный транспорт, и делал строгие замечания водителям, разговаривавшим во время движения. Кричал яростное «ура!» на первомайских демонстрациях вдоль проспекта Ушакова и подолгу беседовал с гномиками во дворе областной поликлиники. Срывал невесомые одуванчики и, терпеливо выжидая, сидел на скамейке мудрости в парке имени Ленинского комсомола. На этом месте можно было загадывать желания. Однажды после одного из таких сидений мне приснилось, что в старом доме на переулке Козацком, который недалеко от железнодорожного вокзала, находится окно в Париж.
Однако сильнее окна в Европу и пуще зиявшего пустотой гроба Потёмкина в Екатерининском соборе меня волновали солнечные часы, вмонтированные в памятник врачу Джону Говарду. Посмотреть, как они показывают время, мне, правда, никогда не удавалось. Рядом строился городской дворец культуры, и памятник с часами долгие годы был окружен высоким зелёным забором. Оставалось ждать завершения долгостроя и гордиться тем, что известный английский филантроп, всю жизнь боровшийся за права заключённых, умер от чумы именно в моём замечательном городе.
Тем временем мы получили квартиру на Карантинном острове. Не ищите здесь скрытых намёков на лишение свободы или эпидемию. Напротив, это был самый экологически чистый район, с развитой инфраструктурой и славной историей. Помните двенадцать мальчишек с Карантинного? Я верю, что хроника их подвигов наряду с жизнеописаниями Мамлакат Наханговой и Чарвы Аннаярова были вашими любимыми страницами из книги «Дети-герои».
Появлялись на Острове и другие знаменитости. В гостинице «Бригантина» местные жители как-то нашли живого Михаила Жванецкого и повлекли его за собой на празднование 25-летия микрорайона. «Что я могу вам сказать? — мудрствовал перед камерой сатирик. — Прожили двадцать пять, проживём ещё столько же».

Блаженная жизнь, однако, продлилась недолго. В муках рождалась новая страна, стремительно умирал судостроительный завод, каскадами отключалась электроэнергия. Троллейбус, подвозивший меня в музыкальную школу, приходил лишь после напряжённого часового вглядывания в колебание проводов на остановке. Путь в музыкалку пролегал мимо Дома культуры судостроителей, на чьём обшарпанном фасаде висела мемориальная доска: «Здесь в последний раз в качестве пианиста-аккомпаниатора выступал композитор Модест Петрович Мусоргский». От одного взгляда на предсмертный портрет этого титана в нашей школе писались от ужаса малолетние скрипачи. Только я не поддавался эмоциям и продолжал учиться игре на баяне.
3 августа на остановке «Площадь Свободы» загадочным образом исчезла будка, в которой сначала был телевизор для рекламы, потом ксерокс, потом продавали талончики на транспорт, а потом на ней просто клеили объявления. Исчезла под корень. Есть версия: будка себя не оправдала и от стыда самоликвидировалась.

В отличие от меня, особой любви к родному городу мой училищный педагог Пётр Николаевич в детстве не испытывал. Окончив московскую Гнесинку, он собирался ехать по распределению в Новосибирскую консерваторию. Но сломал на футбольном матче ногу, что повлекло временную инвалидность и навечное возвращение к родным пенатам — к великому счастью таких оболтусов, как я. Он терпеливо шлифовал наши души, ставил руки и развивал умы. Его многочасовые уроки приправлялись табачным дымом, прослушиванием классических записей и рассказами о московской музыкальной жизни. Пётр Николаевич был энергичен, импульсивен, резок, прям и почти всегда прав.
Мой друг и соученик, аккордеонист Леша был удивительным продуктом селекции известных всей Херсонщине матери-патологоанатома и отца-дерматовенеролога. Отец в бытность студентом Крымского медицинского университета возглавлял команду КВН, состязаясь на московских подмостках с Юлием Гусманом, и подолгу беседовал в Симферополе с архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким). Оставил после себя замечательные лирические стихи и незабвенную «Венериаду», первые строчки которой с лёгкой руки Лёши знало наизусть всё музыкальное училище: «Сядьте, детки, в круг скорее: речь пойдёт о гонорее. Отчего бывает вдруг этот горестный недуг?».
С Лешей мы образовали тандем, выучив «Одессита-Мишку», «Песню про кузнечика» и «Рассыпуху». Играли стоя, вращая головами, за что за глаза были прозваны китайскими болванчиками. Когда экстрим в музыке исчерпывался, мы переключались на бюст Чайковского в вестибюле старого корпуса училища. Любовь к композитору в нас била ключом, а потому Чайковский периодически являлся перед публикой то в шапке-вязанке, то с подведённым чёрной тушью глазом, то с ярко накрашенными губами. Однажды Пётр Ильич чьими-то руками был вознесён на второй этаж в разгар проходившей там репетиции оркестра украинских народных инструментов под руководством Виктора Киселя. Проживавшая в том же корпусе со злобным карликовым псом Чапой завхоз Эмма Степановна, когда ей донесли о случившемся, воскликнула: «Этого не может быть. Ромочка — святой мальчик!»
Попеременно уставая от тяжести нимба и обидных дисциплинарных взысканий, я, как Велизарий или Помпей, иногда удалялся в добровольное изгнание в стены областной библиотеки. Той самой, которая спустя долгие годы странствий нашла меня в социальной сети. Из библиотечных окон открывался величественный вид на Днепр, напоминавший мне позднеантичный Рейн. Бескрайние плавни на левом берегу вплоть до села Костогрызово казались населёнными варварскими племенами. Херсон в моем exil-воображении превращался в древний муниципий, крайний форпост цивилизации. А обелиски парка Славы — в фортификации римского лимеса.
В читальном зале я неизменно заказывал «Вестник древней истории», дабы насладиться отчётами о раскопках лагерей V Македонского легиона. Затем спускался в музыкальный отдел и слушал Concerto grosso №2 Альфреда Шнитке. Нет, только в Херсоне мог так звучать этот Concerto grosso, начальные пиццикато которого подобно гоголевской птице-тройке долетали до середины Днепра и там застывали в ожидании трирем Германика или алых парусов Грина.
Мой друг и соученик, аккордеонист Леша был удивительным продуктом селекции известных всей Херсонщине матери-патологоанатома и отца-дерматовенеролога. Отец в бытность студентом Крымского медицинского университета возглавлял команду КВН, состязаясь на московских подмостках с Юлием Гусманом, и подолгу беседовал в Симферополе с архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким). Оставил после себя замечательные лирические стихи и незабвенную «Венериаду», первые строчки которой с лёгкой руки Лёши знало наизусть всё музыкальное училище: «Сядьте, детки, в круг скорее: речь пойдёт о гонорее. Отчего бывает вдруг этот горестный недуг?».
С Лешей мы образовали тандем, выучив «Одессита-Мишку», «Песню про кузнечика» и «Рассыпуху». Играли стоя, вращая головами, за что за глаза были прозваны китайскими болванчиками. Когда экстрим в музыке исчерпывался, мы переключались на бюст Чайковского в вестибюле старого корпуса училища. Любовь к композитору в нас била ключом, а потому Чайковский периодически являлся перед публикой то в шапке-вязанке, то с подведённым чёрной тушью глазом, то с ярко накрашенными губами. Однажды Пётр Ильич чьими-то руками был вознесён на второй этаж в разгар проходившей там репетиции оркестра украинских народных инструментов под руководством Виктора Киселя. Проживавшая в том же корпусе со злобным карликовым псом Чапой завхоз Эмма Степановна, когда ей донесли о случившемся, воскликнула: «Этого не может быть. Ромочка — святой мальчик!»
Попеременно уставая от тяжести нимба и обидных дисциплинарных взысканий, я, как Велизарий или Помпей, иногда удалялся в добровольное изгнание в стены областной библиотеки. Той самой, которая спустя долгие годы странствий нашла меня в социальной сети. Из библиотечных окон открывался величественный вид на Днепр, напоминавший мне позднеантичный Рейн. Бескрайние плавни на левом берегу вплоть до села Костогрызово казались населёнными варварскими племенами. Херсон в моем exil-воображении превращался в древний муниципий, крайний форпост цивилизации. А обелиски парка Славы — в фортификации римского лимеса.
В читальном зале я неизменно заказывал «Вестник древней истории», дабы насладиться отчётами о раскопках лагерей V Македонского легиона. Затем спускался в музыкальный отдел и слушал Concerto grosso №2 Альфреда Шнитке. Нет, только в Херсоне мог так звучать этот Concerto grosso, начальные пиццикато которого подобно гоголевской птице-тройке долетали до середины Днепра и там застывали в ожидании трирем Германика или алых парусов Грина.

Вместо трирем с парусами на заре 2000-х Херсон дождался Сергея Проскурню. Известный литературный персонаж явился, чтобы одной рукой ставить баллы в жюри театрального фестиваля «Мельпомена Таврии», а другой, по-видимому левой, снимать фильм о херсонских достопримечательностях по заказу Укрзализныци. Скучая, Проскурня познакомил меня с городским центром молодёжных инициатив. Эти добрые люди многое мне объяснили в современном искусстве, научив подавать заявки, реализовывать гранты, мониторить, инициативить и любить Ларса фон Триера — словом всему, без чего не представима жизнь современного куратора с большой дороги.
Однажды мы все вместе пересекли на автобусе Днепр и прибыли в гости к цюрупинской художнице-примитивистке Полине Райко. «Мария Приймаченко херсонских степей», пережившая гибель дочки и побои сына-алкоголика, взялась за кисть в 69 лет. И не останавливалась, пока не расписала весь дом, забор, калитку и фасад летней кухни. «Що це у вас за котики?» — спросил у неё Проскурня, указывая на изображения дивных когтистых существ. «То не котики — то леопардики», — гордо ответила представительница наивного искусства.
Однажды мы все вместе пересекли на автобусе Днепр и прибыли в гости к цюрупинской художнице-примитивистке Полине Райко. «Мария Приймаченко херсонских степей», пережившая гибель дочки и побои сына-алкоголика, взялась за кисть в 69 лет. И не останавливалась, пока не расписала весь дом, забор, калитку и фасад летней кухни. «Що це у вас за котики?» — спросил у неё Проскурня, указывая на изображения дивных когтистых существ. «То не котики — то леопардики», — гордо ответила представительница наивного искусства.
Сегодня мы отмечаем круглую дату с момента легализации исторической ошибки — создания Херсонской области. Причиной соответствующего Указа Президиума Верховного совета СССР стала оговорка знаменитого диктора Юрия Левитана. 13 марта 1944 года он зачитал сводку Совинформбюро, в которой шла речь об освобождении областного центра Херсона. В этой ошибке мы живём и поныне.

С тех пор в Херсоне, кажется, не произошло ничего существенного. Сменились несколько названий улиц. Город вновь обрёл Потёмкина, который вынырнул из небытия в виде памятника не то Каменному гостю, не то херувиму возле областного драмтеатра. Неизвестные перенесли бронзовый бюст Суворова с прежнего места на улице Суворова к остановке «Улица Суворова». Нет, это были не мы с Лешей. Алексей к тому времени зажил новой счастливой жизнью в Домодедово. Тамошние жители по менталитету живо напоминают ему родных, херсонских.
На месте почившего в бозе вкупе со всей херсонской промышленностью Хлопчато-бумажного комбината открылся торгово-развлекательный центр «Фабрика». Херсонцы едут туда целыми маршрутками, играют в кегельбан, а после, сойдясь в компании, негромко поют: «Пью за здравие Мери, милой Мери моей».
Под Херсоном регулярно проходят международные конференции по космонавтике и съезды уфологов. «Мы надеемся, — пишет пресса, — что будет найден ответ на больной вопрос: почему, несмотря на статус Херсонщины как аграрной области — серьёзного поставщика зерновых и бахчевых культур на мировой рынок, — у нас до сих пор ни на одном поле и ни на одной бахче не было найдено инопланетных кругов? Почему высший разум нас игнорирует?».
На месте почившего в бозе вкупе со всей херсонской промышленностью Хлопчато-бумажного комбината открылся торгово-развлекательный центр «Фабрика». Херсонцы едут туда целыми маршрутками, играют в кегельбан, а после, сойдясь в компании, негромко поют: «Пью за здравие Мери, милой Мери моей».
Под Херсоном регулярно проходят международные конференции по космонавтике и съезды уфологов. «Мы надеемся, — пишет пресса, — что будет найден ответ на больной вопрос: почему, несмотря на статус Херсонщины как аграрной области — серьёзного поставщика зерновых и бахчевых культур на мировой рынок, — у нас до сих пор ни на одном поле и ни на одной бахче не было найдено инопланетных кругов? Почему высший разум нас игнорирует?».

Не дождавшись ответа, 22 февраля 2014 года на центральной площади Свободы пал Ленин. Весёлые ребята подогнали грузовик и накинули петлю. Вождь рухнул с первого же рывка под одобрительные возгласы собравшихся.
— Сынок, ты знаешь, мне кажется, Путин этого совсем не ожидал, — сказал мне в тот день отец.
— Да, пап, так ему и надо, — позлорадствовал я в порыве эйфории.
Мер предосторожности тогда мы не приняли. Разговор, разумеется, был подслушан, и у нас начали отнимать Крым. Тургенев в годину жизненных потрясений имел свойство уезжать в Баден-Баден. Я ретировался в немецкий Люденшайд играть матросские песни на юбилее местного хорового общества. Родители, ахнув, встретили результаты референдума 16 марта. Пётр Николаевич до этих дней не дожил, умерев на Покров в 2010 году.
Так сбылись мои грёзы о последнем рубеже обитаемого мира. Херсон стал настоящим пограничным городом, где сливаются небо с землей и заканчивают свой путь скоростные поезда. И теперь всем тем, кто раньше высокомерно наблюдал город из окна купейного вагона, приходится зябко нащупывать ногой херсонский асфальт в предчувствии, что именно здесь заканчивается их бег к последнему морю.
— Сынок, ты знаешь, мне кажется, Путин этого совсем не ожидал, — сказал мне в тот день отец.
— Да, пап, так ему и надо, — позлорадствовал я в порыве эйфории.
Мер предосторожности тогда мы не приняли. Разговор, разумеется, был подслушан, и у нас начали отнимать Крым. Тургенев в годину жизненных потрясений имел свойство уезжать в Баден-Баден. Я ретировался в немецкий Люденшайд играть матросские песни на юбилее местного хорового общества. Родители, ахнув, встретили результаты референдума 16 марта. Пётр Николаевич до этих дней не дожил, умерев на Покров в 2010 году.
Так сбылись мои грёзы о последнем рубеже обитаемого мира. Херсон стал настоящим пограничным городом, где сливаются небо с землей и заканчивают свой путь скоростные поезда. И теперь всем тем, кто раньше высокомерно наблюдал город из окна купейного вагона, приходится зябко нащупывать ногой херсонский асфальт в предчувствии, что именно здесь заканчивается их бег к последнему морю.

Возле кованых решётчатых ворот, пропускающих пассажирский поток на Привокзальную площадь, иногда стоит человек с баяном и баннером «Прими надежду, всяк сюда входящий». Этот гражданин приезжает в Херсон на побывку из диких германских дебрей. Вокруг порой собираются группки любопытных, и они вместе уходят по выдуманному им туристическому маршруту, обязательные пункты которого — поиск окна в Париж и загадывание желаний на скамейке мудрости. Каждый там может подумать о своём. Человек с баяном просит, чтобы его родители жили долго, не болели и снова увидели кисельные берега с молочными реками.
Городской дворец культуры, кстати, у нас так и не построили. Зелёный забор давно убран, так что памятником Говарду со знаменитыми солнечными часами теперь может любоваться каждый. Правда, я так и не научился определять по ним время. Но это, наверное, не важно. Как писал классик, «время, столкнувшись с памятью, узнает о своём бесправии».
Городской дворец культуры, кстати, у нас так и не построили. Зелёный забор давно убран, так что памятником Говарду со знаменитыми солнечными часами теперь может любоваться каждый. Правда, я так и не научился определять по ним время. Но это, наверное, не важно. Как писал классик, «время, столкнувшись с памятью, узнает о своём бесправии».
Все описанные здесь события, герои, автор материала и сам город вымышлены. За случайные совпадения с реальностью автор ответственности не несёт
Рисунки: Александр Шатов