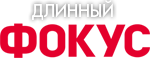точка сборки
Киев на ощупь
Буквы о Киеве складываются в холмистые очертания родного города, который мне осточертел и который у меня не отберут никогда, даже если когда-нибудь я сорвусь с цепи и уеду отсюда

Оксана Савченко
Автор
Проблема человека, который родился в столице, в том, что бежать ему некуда, если только он не собирается эмигрировать. В сравнении с Киевом другие украинские города при приближении кажутся ещё более провинциальными, уровень жлобства в них настолько мощнее, чем дома, что в итоге ты начинаешь ценить свою малую родину.

Киев 90-х в моём сознании прочно спаян с лестничкой на БЖ, как мы её все называли, и с Питером. С круглыми строительными балками на Татарке, на которых мы как-то утром лежали и курили, глядя в небо и думая о том, как бы не протупить пластинку Башлачёва.
Мой Киев — это портвейн в парадняке парня по прозвищу Пиночет и первая сигарета в вонючем дворе родного Отрадника. Рисование каких-то хипповых физиономий на уроках литературы и чтение стихов Ахматовой на оплёванных ступеньках хрущевки, в которой мне посчастливилось вырасти под маразматические звуки «Сингареллы» и прочих народных хитяр. Каштаны плотно ассоциируются с Алёнкой-все-клёвенько — стрёмной, шизанутой гёрлой из Москвы, утверждавшей, что ветви деревьев похожи на лошадок. Мы шатались по городу поздним осенним вечером, и свет фонарей так мягко очерчивал осень, что, казалось, сейчас по Андреевскому проскачет сказочный единорог.
Мой Киев осознанный — это город начала девяностых. Когда я была трудным подростком и делила людей на цивилов и своих. Свои прогуливали школу на БЖ и были законченными социопатами, пили пиво литрами в «Бахусе» на Сагайдачного, курили план в Зелёном театре, вызывая дух чёрного монаха, и читали джентльменский набор тех лет — Маркес-Борхес-Кортасар. Цивилы ходили на дискотеки и снимали иностранцев под Гафом — так почему-то на Отрадном тогда называли Авиационный университет. Свои ездили в другие города. И путешествовали по развалившемуся Союзу на «собаках». Так они получали то, что сейчас даёт интернет — знание о мире, который начинается за границами твоего района.
Путешествие — как цель. Вписка — как точка сборки. Пересечение с людьми из других республик — как исследование географии переломанного о колено истории СССР. Я чувствовала себя сгустком крови, который вылетел из раны исчезнувшей страны на свободу. Я вдыхала запах других городов, как охотничья собака, которая чуяла добычу — предчувствовала, что там, на незнакомых улицах я соприкоснусь с чем-то стоящим и, наконец, пойму, зачем всё.
Мой Киев — это портвейн в парадняке парня по прозвищу Пиночет и первая сигарета в вонючем дворе родного Отрадника. Рисование каких-то хипповых физиономий на уроках литературы и чтение стихов Ахматовой на оплёванных ступеньках хрущевки, в которой мне посчастливилось вырасти под маразматические звуки «Сингареллы» и прочих народных хитяр. Каштаны плотно ассоциируются с Алёнкой-все-клёвенько — стрёмной, шизанутой гёрлой из Москвы, утверждавшей, что ветви деревьев похожи на лошадок. Мы шатались по городу поздним осенним вечером, и свет фонарей так мягко очерчивал осень, что, казалось, сейчас по Андреевскому проскачет сказочный единорог.
Мой Киев осознанный — это город начала девяностых. Когда я была трудным подростком и делила людей на цивилов и своих. Свои прогуливали школу на БЖ и были законченными социопатами, пили пиво литрами в «Бахусе» на Сагайдачного, курили план в Зелёном театре, вызывая дух чёрного монаха, и читали джентльменский набор тех лет — Маркес-Борхес-Кортасар. Цивилы ходили на дискотеки и снимали иностранцев под Гафом — так почему-то на Отрадном тогда называли Авиационный университет. Свои ездили в другие города. И путешествовали по развалившемуся Союзу на «собаках». Так они получали то, что сейчас даёт интернет — знание о мире, который начинается за границами твоего района.
Путешествие — как цель. Вписка — как точка сборки. Пересечение с людьми из других республик — как исследование географии переломанного о колено истории СССР. Я чувствовала себя сгустком крови, который вылетел из раны исчезнувшей страны на свободу. Я вдыхала запах других городов, как охотничья собака, которая чуяла добычу — предчувствовала, что там, на незнакомых улицах я соприкоснусь с чем-то стоящим и, наконец, пойму, зачем всё.
Каштаны плотно ассоциируются с Алёнкой-всё-клёвенько — стрёмной, шизанутой гёрлой из Москвы, утверждавшей, что ветви деревьев похожи на лошадок

— Это мадагаскарские тараканы. Они шипят.
Я в Риге, болтаю с другом Зоопарком, кудрявым сероглазым блондином, о его питомцах, которые не вызывают у меня восторга. До этого он вписывался у меня в Киеве. Теперь я приехала к нему. Мама парня не в восторге. Папа тем более. Он говорит только на латышском и сознательно не переходит на русский уже несколько лет. Мой друг не знает родной язык и с отцом почти не общается. Впрочем, ему на это плевать, и мы целыми вечерами просиживаем в ванной комнате, в которой, о боги! — есть окно на улицу. И можно запереться на щеколду. Мы курим сигареты без фильтра, которыми отцу Зоопарка на заводе выдают зарплату, и играем в шахматы. Я никогда столько не играла в шахматы, как в ту поездку. Мы треплемся обо всём — Янке Дягилевой, Достоевском, Гессе и друзьях. Мама Зоопарка периодически стучит в ванную комнату. Она беспокоится, как бы чего не вышло. Мы оба ещё школьники. Нам пофиг и на «как бы чего не вышло», и на то, что папа смотрит волком на нас обоих и периодически что-то говорит на латышском. Впоследствии выяснилось, что он советовал не курить так много.
Я в Риге, болтаю с другом Зоопарком, кудрявым сероглазым блондином, о его питомцах, которые не вызывают у меня восторга. До этого он вписывался у меня в Киеве. Теперь я приехала к нему. Мама парня не в восторге. Папа тем более. Он говорит только на латышском и сознательно не переходит на русский уже несколько лет. Мой друг не знает родной язык и с отцом почти не общается. Впрочем, ему на это плевать, и мы целыми вечерами просиживаем в ванной комнате, в которой, о боги! — есть окно на улицу. И можно запереться на щеколду. Мы курим сигареты без фильтра, которыми отцу Зоопарка на заводе выдают зарплату, и играем в шахматы. Я никогда столько не играла в шахматы, как в ту поездку. Мы треплемся обо всём — Янке Дягилевой, Достоевском, Гессе и друзьях. Мама Зоопарка периодически стучит в ванную комнату. Она беспокоится, как бы чего не вышло. Мы оба ещё школьники. Нам пофиг и на «как бы чего не вышло», и на то, что папа смотрит волком на нас обоих и периодически что-то говорит на латышском. Впоследствии выяснилось, что он советовал не курить так много.
Я чувствовала себя сгустком крови, который вылетел из раны исчезнувшей страны на свободу

— Я бл…, вчера зелёнкой облилась, — из палатки возле могилы Цоя на Богословском кладбище Питера выползает девица, у которой половина ирокеза залита зелёным бриллиантином. Она ржёт и матерится. Потом мы с ней и компанией панков пьём в каком-то туалете водку из консервной банки и слушаем трёп двух цойманок то ли из Казахстана, то ли из Молдовы о каких-то мужиках и о том, что не надо бы пускать к могиле цивилов. Меня воротит. Но не от водки, а от разговора. Свои перестают быть своими и вызывают тоску.
С тех пор я не особо продвинулась в понимании мироустройства, но научилась почти сразу по приезде, на ощупь, чувствовать другой город. Понимать про него главное. Я никогда не могла почувствовать только родной город. Как не чувствуешь и не осознаёшь собственный запах. На ощупь всегда проще понять, кому из твоих друзей принадлежит та или иная вещь. Свою отгадать труднее в разы. Себя всегда видишь только изнутри. И, как правило, редко попадаешь в фокус.
С тех пор я не особо продвинулась в понимании мироустройства, но научилась почти сразу по приезде, на ощупь, чувствовать другой город. Понимать про него главное. Я никогда не могла почувствовать только родной город. Как не чувствуешь и не осознаёшь собственный запах. На ощупь всегда проще понять, кому из твоих друзей принадлежит та или иная вещь. Свою отгадать труднее в разы. Себя всегда видишь только изнутри. И, как правило, редко попадаешь в фокус.
Я научилась почти сразу по приезде, на ощупь, чувствовать другой город. Я никогда не могла почувствовать только родной город. Как не чувствуешь собственный запах

В начале 90-х, если тебе ещё не выдали паспорт, было возможно путешествие почти без денег, без билетов, без родителей. Взрослые всех пятнадцати республик были настолько растеряны от происходящих событий, от потерь накоплений, от отсутствия еды, что их дети творили что хотели. Свобода подростка — оборотная сторона растерянности взрослого, потерявшего берега. На тот момент я и моя подруга представляли собой двух чернявых тощих девочек в джинсах и чёрных свитерах. Проводники никогда не принимали нас всерьёз, полагая, что мы путешествуем с родителями, и не спрашивали билеты. Мы ездили в Питер и в Москву на каникулы, иногда зайцами, почти всегда без денег и без вписки (места, в котором можно остановиться), полагаясь на случай и предчувствуя приключения, ходили ночами по улицам других городов, как по полу с подогревом, не понимая, что на самом деле чешем босыми ногами по лезвию бритвы. Но бог миловал.
Когда в 1990 году в Киеве студенты объявили голодовку на Рулетке (так называли Майдан, тогда площадь Октябрьской революции), всё было как в чёрно-белом кино. Монумент героям революции 1917 года ещё не был снесён. И Ленин смотрел на голодающих, как дятел на жуков, которые подтачивают его дерево. Мимо студентов мы проходили почти каждый день. На Крещатике была кофейня «Морозка», напротив Бессарабского рынка. Там собирались поэты, музыканты, неформалы, алкаши, меломаны. Вторая точка — кофейня «Квинта» на Большой Житомирской. Мы курсировали между ними, как персонажи компьютерной игры, стреляя по ходу продвижения сигареты. В школьных формах или драных джинсах, которые были исписаны текстами из песен Цоя, БГ и Летова, иногда на штанах случались строки из Бродского. Тогда порванные джинсы не были в моде, и за них гопники могли дать по морде тут же в Трубе. Кстати, с повадками представителей этой городской прослойки я знакома неплохо — они почти в ноль присущи и сегодняшним политикам. Проблема моего города в том, что им всегда управляли гопники и жлобы, быковато и по-свойски, будто они отсюда.
Когда в 1990 году в Киеве студенты объявили голодовку на Рулетке (так называли Майдан, тогда площадь Октябрьской революции), всё было как в чёрно-белом кино. Монумент героям революции 1917 года ещё не был снесён. И Ленин смотрел на голодающих, как дятел на жуков, которые подтачивают его дерево. Мимо студентов мы проходили почти каждый день. На Крещатике была кофейня «Морозка», напротив Бессарабского рынка. Там собирались поэты, музыканты, неформалы, алкаши, меломаны. Вторая точка — кофейня «Квинта» на Большой Житомирской. Мы курсировали между ними, как персонажи компьютерной игры, стреляя по ходу продвижения сигареты. В школьных формах или драных джинсах, которые были исписаны текстами из песен Цоя, БГ и Летова, иногда на штанах случались строки из Бродского. Тогда порванные джинсы не были в моде, и за них гопники могли дать по морде тут же в Трубе. Кстати, с повадками представителей этой городской прослойки я знакома неплохо — они почти в ноль присущи и сегодняшним политикам. Проблема моего города в том, что им всегда управляли гопники и жлобы, быковато и по-свойски, будто они отсюда.
Проблема моего города в том, что им всегда управляли гопники и жлобы, быковато и по-свойски, будто они отсюда

Лето. В школе каникулы. Ранее утро. Я в Питере. Стою у Спаса на Крови — он в лесах, ободран, как бомж, и красив. Рядом мальчик Ика, поклонник БГ, который знал, кто такой Вокищнеберг, и моя подруга. Красота города нас опрокинула на лопатки. Мы ночевали у художников, анархистов, у одной не вполне нормальной молодой женщины, которая была помешана на сновидениях и сгущёнке, а однажды в Нахимовском училище полночи слушали, как парень поёт под гитару песни Шевчука. Мы блуждали по Питеру, как зачарованные странники.
Мы тогда ещё не знали, что осенью 1992 года Ика умрёт от опухоли мозга. Что отделившаяся страна постепенно начнёт меняться, а на Рулетке в трубе наш друг Фрэнк со смехом будет говорить, что гондон — это теперь нацюцюрник. Что девушка на класс старше переспит с преподом, а потом через пятнадцать лет умрёт от СПИДа, что парень, которого мы обзывали Смычком, станет продвинутым бизнесменом, что у другого, всегда благополучного, родится сын аутист, а третий романтичный чтец поэзии Серебряного века превратится в политтехнолога. Что умрёт часть киевских зданий, что самиздат Оруэлла — синяя обложка и маленькие цифры «1984» — скоро станут продавать в свободном доступе. Что состояние полёта исчезнет. Что наш Киев будут кромсать и перекраивать, как студенты патологоанатомы никому не нужный труп, что вырастут дома-красавцы и дома-уроды, что уникальная архитектура 70-х будет ржаветь и гнить, как попрошайки на автобусных остановках. Что на наших улицах, по которым мы на спор ходили с закрытыми глазами, начнут стрелять. Что будет гореть стадион Лобановского и Дом профсоюзов. Что начнётся война. Что будут потоком идти беженцы. Мы тогда этого не знали. Мы блаженно пялились на августовское небо. И купленная по случаю пластинка СашБаша перевешивала развал Совка. Просто в один день мне стало жутко, когда какой-то питерец, узнав, что я из Киева, вдруг процитировал Катаева:
Перестань притворяться, не мучай, не путай, не ври,
Подымаются шторы пудовыми веками Вия.
Я взорвать обещался тебя и твои словари,
И Печерскую лавру, и Днепр, и соборы, и Киев.
В этих строчках будто предчувствие того дня в феврале 2014-го, когда я на Михайловской площади увидела пятна крови на брусчатке. Я до сих пор отчётливо помню атмосферу в метро после расстрела — у всех людей были одинаково опрокинутые лица, будто сняли с них шелуху, обнажив души. Тогда я особенно остро чувствовала, что Киев мой город. Тогда я вспомнила Спаса на Крови в Питере образца начала 90-х.
Мы тогда ещё не знали, что осенью 1992 года Ика умрёт от опухоли мозга. Что отделившаяся страна постепенно начнёт меняться, а на Рулетке в трубе наш друг Фрэнк со смехом будет говорить, что гондон — это теперь нацюцюрник. Что девушка на класс старше переспит с преподом, а потом через пятнадцать лет умрёт от СПИДа, что парень, которого мы обзывали Смычком, станет продвинутым бизнесменом, что у другого, всегда благополучного, родится сын аутист, а третий романтичный чтец поэзии Серебряного века превратится в политтехнолога. Что умрёт часть киевских зданий, что самиздат Оруэлла — синяя обложка и маленькие цифры «1984» — скоро станут продавать в свободном доступе. Что состояние полёта исчезнет. Что наш Киев будут кромсать и перекраивать, как студенты патологоанатомы никому не нужный труп, что вырастут дома-красавцы и дома-уроды, что уникальная архитектура 70-х будет ржаветь и гнить, как попрошайки на автобусных остановках. Что на наших улицах, по которым мы на спор ходили с закрытыми глазами, начнут стрелять. Что будет гореть стадион Лобановского и Дом профсоюзов. Что начнётся война. Что будут потоком идти беженцы. Мы тогда этого не знали. Мы блаженно пялились на августовское небо. И купленная по случаю пластинка СашБаша перевешивала развал Совка. Просто в один день мне стало жутко, когда какой-то питерец, узнав, что я из Киева, вдруг процитировал Катаева:
Перестань притворяться, не мучай, не путай, не ври,
Подымаются шторы пудовыми веками Вия.
Я взорвать обещался тебя и твои словари,
И Печерскую лавру, и Днепр, и соборы, и Киев.
В этих строчках будто предчувствие того дня в феврале 2014-го, когда я на Михайловской площади увидела пятна крови на брусчатке. Я до сих пор отчётливо помню атмосферу в метро после расстрела — у всех людей были одинаково опрокинутые лица, будто сняли с них шелуху, обнажив души. Тогда я особенно остро чувствовала, что Киев мой город. Тогда я вспомнила Спаса на Крови в Питере образца начала 90-х.
Ни один город не знает меня лучше, чем Киев. Он хранит мой отпечаток. Я знаю, что если когда-нибудь покину его, он будет мне сниться. Как до сих пор снится Крым

Ни один город не знает меня лучше, чем Киев. Он хранит мой отпечаток. Как дагерротип. Я знаю, что если когда-нибудь покину его, он будет мне сниться, как снился Питер. Как до сих пор снится Крым.
Мой Киев губкой впитал мои чувства. Когда хожу своими тропами — мимо универмага Украина, мимо метро Политех, мимо Лукьяновки и Татарки, мимо улицы с диковатым названием Полярная, мимо, прости господи, Гарматной, по Новопереческому переулку, по Лумумбы, по Терещенковской, — я вспоминаю, как это быть собой. Это как дневник, который ведёшь годами. Если жить в родном городе, не покидая его, можно понять, что в мире нет постоянных вещей, и одновременно всё — константа. И поэтому жить не страшно. То, что тебе дали, подарили или ты сам выгрыз из глотки родного города, не исчезнет и не отберут никогда. Даже если ты когда-нибудь сорвёшься с цепи и наконец-то уедешь отсюда.
Мой Киев губкой впитал мои чувства. Когда хожу своими тропами — мимо универмага Украина, мимо метро Политех, мимо Лукьяновки и Татарки, мимо улицы с диковатым названием Полярная, мимо, прости господи, Гарматной, по Новопереческому переулку, по Лумумбы, по Терещенковской, — я вспоминаю, как это быть собой. Это как дневник, который ведёшь годами. Если жить в родном городе, не покидая его, можно понять, что в мире нет постоянных вещей, и одновременно всё — константа. И поэтому жить не страшно. То, что тебе дали, подарили или ты сам выгрыз из глотки родного города, не исчезнет и не отберут никогда. Даже если ты когда-нибудь сорвёшься с цепи и наконец-то уедешь отсюда.
Фото: Валерий Милосердов