Неглянцевая Италия
Провинциальные радости Пьемонта
Татьяна Гордиенко
Переводчик, редактор
Пьемонт в Италии — легендарный регион и гастрономически, и исторически, и культурно. Тут нам и трюфель, и Умберто Эко, и пьянящее красное вино бароло, и римские крепости с акведуками, и кафе, где сиживали Александр Дюма-отец и Ницше.
Турин — первая столица объединенной Италии и родина бесчисленных брендов Made in Italy. Пьемонт недооценен, хотя делает много для того, чтобы привлечь туристов. Тем не менее, он остается за пределами классических туристических маршрутов по Италии, которые редко включают что-то кроме Рима, Венеции, Тосканы и Милана, который видишь проездом из аэропорта.
Сейчас я живу в Житомире, но мне довелось познакомиться с Пьемонтом достаточно близко в качестве студентки Туринского университета. И, скажу вам, этот регион — удовольствие особенное, некоммерческое, это впечатление, скроенное по индивидуальному заказу: что вы здесь ищете, то и найдете.
Аперитив
Итальянцы более, чем остальные люди — существа социальные. Даже в Пьемонте, где региональный характер традиционно считается отмеченным формальной вежливостью, сдержанностью во всем и закрытостью. Все относительно. Мне лично многие пьемонтцы показались по градусу взаимодействия не холоднее житомирян. К примеру, чтобы не идти сразу после работы домой, к утомительным обязанностям или незатейливому досугу, а поболтать лишний час с друзьями, расслабиться, познакомиться с интересными личностями, в том числе с целью флирта, в Пьемонте придумали аперитив. Это ритуал «уставшего работника»: примерно с пяти вечера в барах ставят на стойку всякие холодные закуски, которые идут к бокалу аперитива общей стоимостью около 10 евро. Так как количество этих закусок неограниченно, то заодно можно незаметно для себя и поужинать. А когда ты — бедный студент, «не евший шесть дней», то зайти в не очень элегантный бар, лишенный цветистого прошлого и чопорных, как работники королевского похоронного бюро, официантов, - прекрасный повод побыть, наконец, молодым и сытым.
В Турине есть такое известное заведение неподалеку от Палаццо Нуово — самого большого корпуса университета, где обитают гуманитарии, называется оно Бар Россини, потому что находится на углу улицы Россини и Корсо Реджина Маргерита. Там можно благоразумно выпить и безалкогольный аперитив. Заесть его горстью кукурузных чипсов и пойти учить германскую филологию. Но не таковы студенты гуманитарных факультетов в Турине. Они слишком хорошо осведомлены об альтернативах. Во-первых, вино. Люди, безусловно, делятся на тех, кто любит белое и на тех, кто предпочитает красное. Последние, по моим наблюдениям, по крайней мере в Италии, в большинстве. Здесь, в Пьемонте, их понять особенно легко: вино барбера — самое популярное, далеко не самое дорогое из местных вин, — это отдельное удовольствие для вкусовых рецепторов. В студенческом баре никто не предложит вам дорогое бароло, но его нужно иметь в виду на «особый случай», который обязательно представится в краю, где учредили даже Университет эногастрономических наук (г. Бра, в провинции Кунео) и регулярно проводят международные ярмарки вкуса, в том числе отдельно сырные и шоколадные. К доброму бокалу вина студенты берут хлебные палочки с розмарином и зелеными оливками и хамон, который в Италии называют прошутто.
Магия
Взобраться на легендарную башню Антонелли для студента — табу. Есть поверье, что как только он поднимется в сверкающем лифте до шпиля башни, то не окончит университет, завалит диплом. Для меня башня Антонелли — пожалуй, единственное по-настоящему волшебное место Турина.
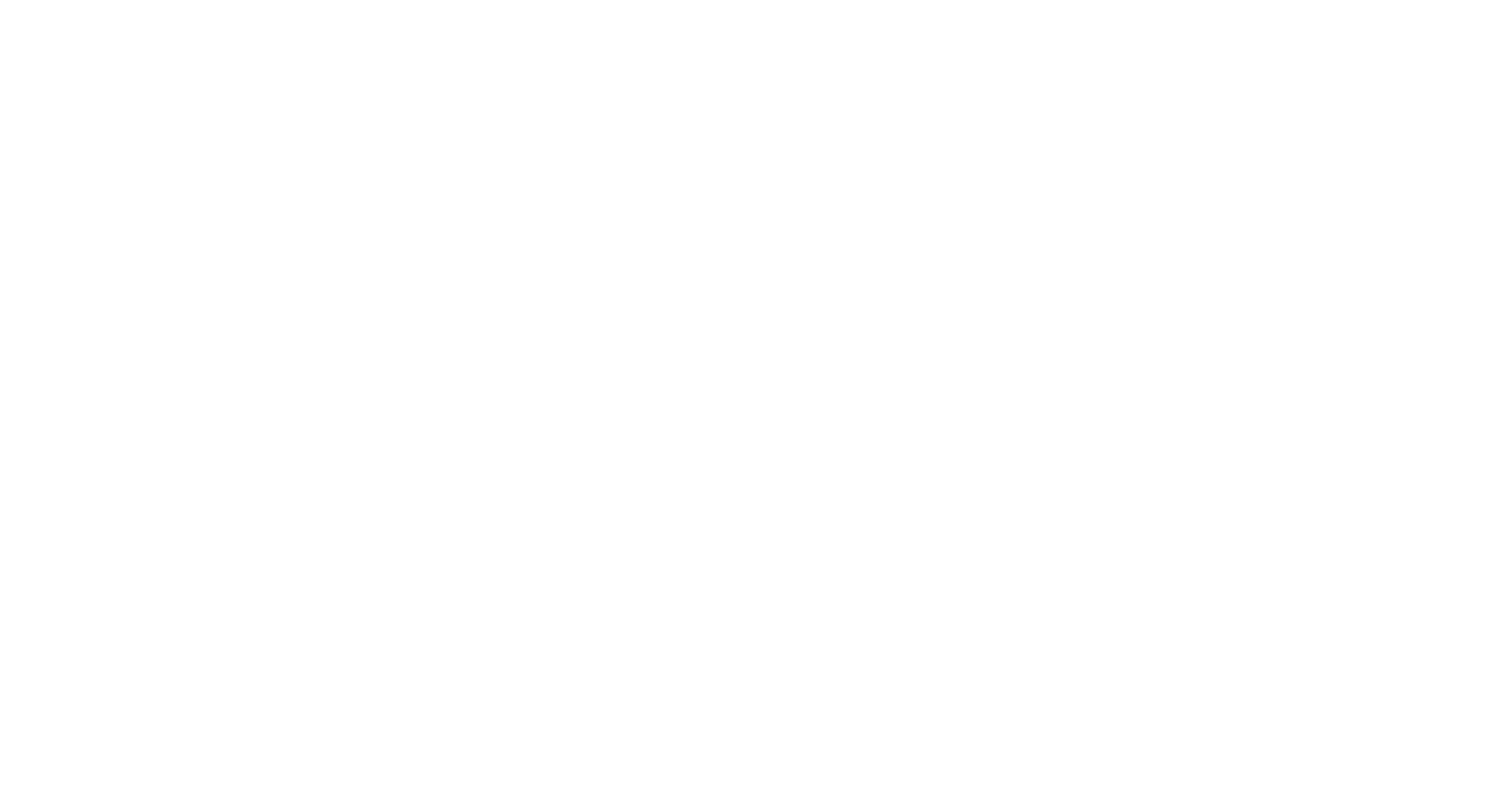
Эзотерика — любимая «лошадка» народного и официального пьемонтского пиара. Первое, что мне сообщили по приезде в Турин, это то, что город — вершина одновременно двух треугольников: белой магии (Прага — Лион — Турин) и черной магии (Турин — Лондон — Сан-Франциско).
Белой магией город наделяет капелла с Туринской плащаницей. Настоящая ли это реликвия? В истории их возникало и исчезало с полтора десятка. Радиоуглеродный анализ показал, что плащаница из Турина была создана уже в Средневековье. Чертить всякие магические треугольники, круги, линии и пирамиды на карте города — традиционная забава местных жителей. Вам расскажут, что если «белым сердцем города» является капелла с плащаницей за площадью Кастелло, то черным — площадь Статуто, посреди которой возвышается стелла, отмечающая место прохождения 45 параллели. Сама по себе параллель безвредна, а вот вокруг площади частенько случаются всякие происшествия криминального и паранормального толка.
В центре, в том числе в районе университетских корпусов, полно каких-то «знаменательных» магических мест вроде «того места, где стоял дом, в стену которого, по преданию, Нострадамус спрятал свой не сохранившийся до наших дней манускрипт» или «дворика, по которому как-то раз прошелся граф Калиостро». Оба оккультиста действительно бывали в Турине, как и многие другие люди науки и культуры — ведь в свое время он был столицей блистательного Савойского королевства.
В центре, в том числе в районе университетских корпусов, полно каких-то «знаменательных» магических мест вроде «того места, где стоял дом, в стену которого, по преданию, Нострадамус спрятал свой не сохранившийся до наших дней манускрипт» или «дворика, по которому как-то раз прошелся граф Калиостро». Оба оккультиста действительно бывали в Турине, как и многие другие люди науки и культуры — ведь в свое время он был столицей блистательного Савойского королевства.
Но что такое магия для юного существа, которое обитает в чужой стране, ест всякую гадость, ходит на пары, где не делают перекличек и не проверяют конспекты, работает на двух работах и делит комнату с местной девицей правых убеждений? Магия в этом случае — это смена в букшопе Музея кино, самого большого в Европе, который располагается в величественных залах башни Антонелли (Mole Antonelliana). Башня задумывалась архитектором как синагога, но что-то пошло не так и ее выкупил город. Со своими 167,5 метрами высоты Моле была самым высотным зданием Италии до 2011 года. Музей кино безумно интересен: и постоянной экспозицией, и тематическими выставками. Но мне кажется, что основной «изюминкой» башни является лифт, уносящий под небеса желающих полюбоваться панорамой: Турин лежит в чаше из посыпанных хрустальной крошкой гор и зеленых холмов на месте слияния двух рек. Если смена заканчивалась в 20.00, то и путь домой под портиками улицы По был подобен игре с волшебным фонарем: тени, голоса, обрывки музыки, чувство того, что впереди — только воля и радость, как у поэта Уитмена.
Пьемонтская старина
Если вы читали роман «Имя розы» Умберто Эко, уроженца Алессандрии, что в Пьемонте, или смотрели экранизацию с бесподобным Шоном Коннери в роли проницательного брата Вильгельма, то примерно представляете себе величие большого и богатого монастыря. Но то, что вы себе представляете, это даже не половина того, что вы увидите при посещении аббатства Сакра ди Сан Микеле. Именно это место вдохновило писателя на создание своего произведения. Построенное в Х веке, аббатство стоит на пути пилигримов из почти одноименного Монт-Сен-Мишеля в Нормандии до Монте-Сант-Анджело далеко на юге, в регионе Пулья. Мы, выросшие в городах, где самому древнему зданию от силы 300 лет, замираем в восхищении, в неверии, в восторге, касаясь каменных колонн, которым тысяча лет. Колонн, портиков, алтарей, которых касались руки королей и монахов, рыцарей и паломников. В главной церкви святыни — усыпальница савойской королевской семьи. Здесь до сих пор проводятся богослужения и слышно григорианское пение святых отцов.
Аббатство расположено на горе Пиркьярино, которая видела укрепленные поселения здесь, при входе в долину Суза, возведенные поочередно кельтами, римлянами и лангобардами. Последние именно в этом месте хотели пресечь наступление войск Карла Великого с французской стороны гор — и напрасно: франки выиграли битву и остались здесь до 888 года, когда западные Альпы были захвачены сарацинами.
Аббатство расположено на горе Пиркьярино, которая видела укрепленные поселения здесь, при входе в долину Суза, возведенные поочередно кельтами, римлянами и лангобардами. Последние именно в этом месте хотели пресечь наступление войск Карла Великого с французской стороны гор — и напрасно: франки выиграли битву и остались здесь до 888 года, когда западные Альпы были захвачены сарацинами.
Теперь представьте себе: вы стоите там, откуда на горные перевалы смотрели кельтские лучники, римские легионеры и франкские рыцари. Вокруг все те же горы, леса, деревеньки — те же самые, что и тысячу лет назад — и в этом путешествии во времени вы получаете неизгладимые впечатления.
Во многих итальянских городках, даже в тех, которые еле дотянули бы до звания райцентра у нас, есть свой замок: где поменьше, поскромнее, где побольше, побогаче. Так получилось, что больше мне довелось повидать мест в северном Пьемонте, где нет знаменитых на весь мир виноградников, где не производят «раскрученные» марки сыров и шоколада. Зато здесь бывает снег. Самый настоящий снег, который колдует, превращая руины фортов вдоль трассы, ведущей в Валле-д'Аоста, соседний франкоязычный регион, в Замок спящей красавицы. Отправиться в Валле-д'Аоста зимой — беспроигрышная затея. Потому что в любое время года вы там замерзнете, но зимой еще и погуляете в снежной сказке. Редко где в Италии вам это удастся.
Во многих итальянских городках, даже в тех, которые еле дотянули бы до звания райцентра у нас, есть свой замок: где поменьше, поскромнее, где побольше, побогаче. Так получилось, что больше мне довелось повидать мест в северном Пьемонте, где нет знаменитых на весь мир виноградников, где не производят «раскрученные» марки сыров и шоколада. Зато здесь бывает снег. Самый настоящий снег, который колдует, превращая руины фортов вдоль трассы, ведущей в Валле-д'Аоста, соседний франкоязычный регион, в Замок спящей красавицы. Отправиться в Валле-д'Аоста зимой — беспроигрышная затея. Потому что в любое время года вы там замерзнете, но зимой еще и погуляете в снежной сказке. Редко где в Италии вам это удастся.
Долина Аосты, она же Валле-д'Аоста — небольшая область, примыкающая границами и культурными традициями к Франции, до которой рукой подать: хочешь, пешком через перевал, хочешь — на машине через туннель. В этом регионе два официальных языка: итальянский и французский. Если вы студент, посещающий курсы французского для начинающих, то прислушиваться к говору местных будет бесполезно. Диалект «патуа» так же похож на французский, как гуцульский говор — на литературный украинский. Приближаться к Аосте стоит медленно. Сначала вы проезжаете виноградники Калюзо, где можно попробовать белое, знаменитое Erbaluce di Caluso, которое вам понравится, даже если вы поклонник красных вин. Автострада бежит, зажатая среди гористых склонов. Да-да, этот пик вдалеке — Монблан. На склонах гор каждые пять минут показываются зубчатые башни крепостных стен, строго следящие за движением своими зоркими бойницами.
И форт Бард, и замок Фенис — это достойнейшие из недооцененных достопримечательностей. А вот римский акведук Pont d`Ael в Эмавилле, который стоит над бурлящей горной рекой с ІІІ ст. до н.э., — самое загадочное место в долине. Стоит он так нерушимо, что по нему можно спокойно ходить: и по верхнему ярусу, где когда-то текла вода, и по галерее внутри. Акведук строили для водоснабжения только основанной Augusta Prætoria Salassorum (города Аосты) и полива прилегающих угодий. 6 км в длину, 2,5 м в ширину, акведук особенно живописен на одном своем отрезке — над ущельем глубиной в 66 м. В поселке, где расположен акведук-мост, я ни разу не видела ни одной живой души. Совсем уже нетипичные для Италии домики из серого камня и темного дерева, крытые не черепицей, а плоскими каменными пластинами, выложенными чешуей, выглядят не только жилыми, но и довольно ухоженными. Кружевные занавески белоснежны. Герань обильно алеет под окнами и вдоль перил крыльца. Никого. Безмолвие. Сиеста? Может быть. А может, столетний сон заколдованной принцессы?
Люди в глубинке
Седой, еще крепкий Пьеро на сельской выставке старинных игрушек и предметов быта показывает почерневшую от времени ручную кофемолку: «Сейчас хорошо, мы уже не мерзнем так, как раньше зимой. Можно выпить прекрасный кофе утром. После войны мне было лет десять, я помню, что у нас тогда не было башмаков, нам делали такие деревянные колодки, к ноге привязывались веревочками. И кофе не было. Сушили корешки цикория и молотили вот в этой вот кофемолке. Гадость это была неимоверная, а что делать? Без чашки даже фальшивого кофе — разве это жизнь? А когда бомбили Турин, нам отсюда сверху было видно. Такое зарево! Это было страшно».
Древний Джорджо на площади у мэрии дарит старенький, и, видимо, не очень исправный, велосипед беженцу из Нигерии. Африканцев поселили в глухой горной деревне, где нет ни работы, ни других иностранцев, с кем можно пообщаться; здесь нет вообще ничего, кроме магазина, аптеки и бара, куда они все равно не зайдут — не решатся. У Джорджо нет зубов, от чего он кажется еще древнее, чем есть на самом деле. Он говорит на дивной смеси французского и итальянского. «Я сам из Марокко. Мой отец — местный, из вот этой самой деревни. Дом, в котором я живу сейчас, — дом моего деда. Родители приехали в Марокко на работу, там и познакомились. В то время в Африке был Французский протекторат, поэтому мой родной язык — французский, я там вырос. Там моя родина. Около 20 тысяч нас там было, в основном — рабочих, строителей. А когда началась Вторая мировая и Италия вступила в войну на стороне немцев, а Франция — на стороне союзников, мы стали врагами нашим вчерашним друзьям и соседям, марокканцам и французам. Италия позвала нас домой, и мы предпочли уехать, но уехали мы во Францию, у матери там были родные. Я долго там жил, но семьи у меня нет и теперь, старый и бедный, я вернулся сюда, где у меня есть хотя бы свой дом».
Древний Джорджо на площади у мэрии дарит старенький, и, видимо, не очень исправный, велосипед беженцу из Нигерии. Африканцев поселили в глухой горной деревне, где нет ни работы, ни других иностранцев, с кем можно пообщаться; здесь нет вообще ничего, кроме магазина, аптеки и бара, куда они все равно не зайдут — не решатся. У Джорджо нет зубов, от чего он кажется еще древнее, чем есть на самом деле. Он говорит на дивной смеси французского и итальянского. «Я сам из Марокко. Мой отец — местный, из вот этой самой деревни. Дом, в котором я живу сейчас, — дом моего деда. Родители приехали в Марокко на работу, там и познакомились. В то время в Африке был Французский протекторат, поэтому мой родной язык — французский, я там вырос. Там моя родина. Около 20 тысяч нас там было, в основном — рабочих, строителей. А когда началась Вторая мировая и Италия вступила в войну на стороне немцев, а Франция — на стороне союзников, мы стали врагами нашим вчерашним друзьям и соседям, марокканцам и французам. Италия позвала нас домой, и мы предпочли уехать, но уехали мы во Францию, у матери там были родные. Я долго там жил, но семьи у меня нет и теперь, старый и бедный, я вернулся сюда, где у меня есть хотя бы свой дом».
Среди старичков, живущих в полузаброшенных итальянских горных деревушках, периодически появляется молодежь. Дауншифтинг — новая тенденция в Италии, где энтузиасты возрождают старые местные сорта фруктовых деревьев, например, отдаются старинным народным ремеслам или производят органическую продукцию. Надо сказать, что далеко не все, уехав в глушь, остаются: жизнь в полуразрушенном пастушьем доме, где вокруг ни души, а ближайший детсад — в часе езды по узкому серпантину, — нелегка, не все выдерживают, да и не всем она подходит.
Женщина в окошке почтового отделения в селе, где обитают 700 душ, и то разбросанные по хуторам: «Я не понимаю, зачем молодежи ехать в село. Я отсюда убежала, была согласна делать любую работу, лишь бы не гнуть спину, как мои мать и отец, на этой каменистой земле. Лишь бы не мерзнуть в этих сырых домах после тяжелого дня возни с коровами и в огороде. И я не жалею, что ушла учиться в город, хоть мне было тяжело. Но тогда были 1960-е, экономический бум, тогда можно было выпрыгнуть из своего социального слоя в более высокий. А теперь — нет, молодым некуда прыгать. Но и вниз, в крестьянскую жизнь, из которой столькие мечтали вырваться, – встраиваться не стоит».
Лидия, дочь и вдова известных в округе врачей, курит крепкие сигареты одну за другой: «Я понимаю иммигрантов. Родители моей матери уехали вместе с ней в Америку, чтобы заработать денег. Мама работала деловодом в офисе большой компании, она видела в окно порт Нью-Йорка, в который заходят корабли из Европы и вновь отправляются туда, за океан, домой. В итоге они вернулись и она, отлично зная английский, какое-то время тут в Турине работала переводчицей. Потом, конечно, работу пришлось оставить — жене доктора было неприлично работать. Маме было очень тяжело это пережить. В войну мы переехали из Турина в глухомань: так она раз в неделю надевала лучшее платье, садилась на велосипед и ехала в соседний городок в кино. Однажды ей какая-то подруга сказала, что что-то там надо себе колоть для молодости и красоты. Мать «докололась» до абсцесса на мягком месте — признаться в «омолаживающем эксперименте» ей пришлось моему отцу. Он отругал ее, но эффективно вылечил. Правда, на велосипед она еще долго сесть не могла».
Женщина в окошке почтового отделения в селе, где обитают 700 душ, и то разбросанные по хуторам: «Я не понимаю, зачем молодежи ехать в село. Я отсюда убежала, была согласна делать любую работу, лишь бы не гнуть спину, как мои мать и отец, на этой каменистой земле. Лишь бы не мерзнуть в этих сырых домах после тяжелого дня возни с коровами и в огороде. И я не жалею, что ушла учиться в город, хоть мне было тяжело. Но тогда были 1960-е, экономический бум, тогда можно было выпрыгнуть из своего социального слоя в более высокий. А теперь — нет, молодым некуда прыгать. Но и вниз, в крестьянскую жизнь, из которой столькие мечтали вырваться, – встраиваться не стоит».
Лидия, дочь и вдова известных в округе врачей, курит крепкие сигареты одну за другой: «Я понимаю иммигрантов. Родители моей матери уехали вместе с ней в Америку, чтобы заработать денег. Мама работала деловодом в офисе большой компании, она видела в окно порт Нью-Йорка, в который заходят корабли из Европы и вновь отправляются туда, за океан, домой. В итоге они вернулись и она, отлично зная английский, какое-то время тут в Турине работала переводчицей. Потом, конечно, работу пришлось оставить — жене доктора было неприлично работать. Маме было очень тяжело это пережить. В войну мы переехали из Турина в глухомань: так она раз в неделю надевала лучшее платье, садилась на велосипед и ехала в соседний городок в кино. Однажды ей какая-то подруга сказала, что что-то там надо себе колоть для молодости и красоты. Мать «докололась» до абсцесса на мягком месте — признаться в «омолаживающем эксперименте» ей пришлось моему отцу. Он отругал ее, но эффективно вылечил. Правда, на велосипед она еще долго сесть не могла».
«Я отсюда убежала, была согласна делать любую работу,
лишь бы не мерзнуть в этих сырых домах после
тяжелого дня возни с коровами и в огороде»
лишь бы не мерзнуть в этих сырых домах после
тяжелого дня возни с коровами и в огороде»
В нашем воображении Италия — «глянцевое» место с теплым морем, красными черепичными крышами, пиццей-мандолиной и так далее. На самом деле Италия очень разная. Здесь есть рай для потребителей — идеальные галереи с магазинами в Милане, а есть Пьяцца делла Конкордия во Флоренции, где люди плачут от красоты, которую не купить. Есть еще Пьемонт, где магия и вино, замки и цитадели, но также и люди, убежавшие из деревень на фабрики Fiat, или люди, приехавшие в горы в надежде на новую жизнь, далеко от войны, нищеты и мегаполисов, где каждый в толпе более одинок, чем в безмолвии овечьих пастбищ. Здесь есть ресторанчики, о которых знают только «свои люди», королевские резиденции, величественные святыни и заброшенные шахты, есть гламурное и есть очень скромное, есть на продажу, а есть «для себя». Всегда есть та Италия, которую вы никогда не увидите, если ограничитесь кормлением толстых голубей на площади Святого Марка в Венеции. И, пожалуй, именно эта Италия – самая настоящая.
