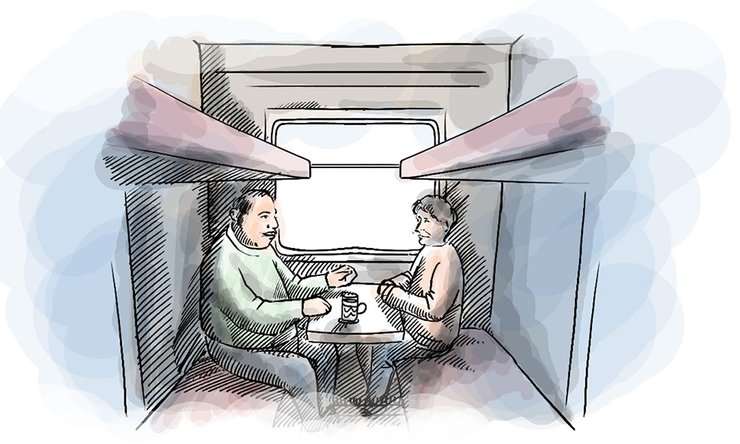Атака легкой кавалерии. Как яблоко победило смерть в Крыму и на Донбассе

1854 год, Крым. 2014 год, Донецк. 2017 год, Львов. Цепь событий, связанных невидимыми нитями
Бартошу и Агнешке
Came thro' the jaws of Death,
Back from the mouth of Hell
Tennison
В истории Крымской войны есть два эпизода, в которых британская армия показала безупречную доблесть. Оба они случились во время Балаклавского сражения, в конце октября 1854 года.
Каждое утро немного японское, но особенно осеннее утро, белое, как рисовая бумага, иссеченная иероглифами голых веток.
Пахнет яблоками и дымом, блестит в дорожных выбоинах вода, серебрятся лошадиные шкуры. Красные мундиры — изысканная рифма к увядающим осенним деревьям; черные мохнатые шапки — словно спящие вороны. В изгибах крымских ущелий эхо полковой шотландской волынки звенит удивленно и преувеличенно звонко.
Сын столяра и генерал-майор Колин Кэмпбелл, командир шотландского пехотного полка, готовит своих людей к казацкой конной атаке. По уставу он должен выстроить их глубиной в четыре линии, но фронт обороны слишком широк, людей мало, и Кэмпбелл приказывает строиться по двое. Оборона худеет, но зато каждому атакующему кавалеристу теперь будет гарантирован наведенный прицел винтовки.
Русские возникают на горизонте дрожащей черной нитью, разгоняются медленно и тяжело. Шашки поблескивают золотом в прозрачном утреннем воздухе. Лошадиный топот сгущается, уже можно различить пьяные крики и улюлюканье.
Первый залп.
Обзор заволакивает густым серым дымом, и второй линии приходится стрелять вслепую. Земля под ногами начинает дрожать, пронзительно ржут раненные лошади и воют от боли люди.
Второй залп.
Сквозь дым уже можно различить неясные, длинные и синие силуэты.
Шотландцы стреляют в третий раз, и генерал Кэмпбелл кричит: "Штыки!"
***
"Кровь и смерть, — говорит Васыль на украинском языке, — кровь, грязь и смерть. Мы зашли в убогую, нищую деревню, люди там ничего не видели. Они боятся жизни, боятся всего. Мы и в Луганске бывали, машет рукой, отводит в сторону глаза".
Долго молчит.
После паузы Васыль продолжает: "Я раньше состоял в дирекции всемирного украинского комитета. — Трет подбородок, шепчет и разгибает пальцы. — Пять, да, пять лет. Весь мир тогда объездил. Латинская Америка, Китай, Япония".
Мы с ним разговариваем уже минут сорок, за окном глубокий синий вечер, Львов, одна из узких старинных улочек в центре. Квартира в дряхлом австрийском доме с фирменным желтым двориком-горлом по внутренней стене. Грязно, много мусора, пустые пластиковые бутылки и пыльные стопки книг на полу. Я здесь оказался случайно, на три-четыре дня, и завтра уезжаю.
"Потом в Киеве работал, — продолжает Васыль, на хорошей государственной службе. — Квартиру купил, одежда была приличная, все-таки статус, нужно соответствовать… Да вот, смотри", — выбрасывает он руку назад, в сторону шифоньера, на приоткрытой дверце которого, на разноцветных пластмассовых тремпелях висят две рубашки — в сине-голубую клетку и белая с тонкими бежевыми квадратами в полплеча.
Он еще много всего рассказывает: о том, что киевское жилье оставил жене и дочери (так бывает — проговорил он в черное окно), о том, что работы в столице нет, на мизерную зарплату научного сотрудника в национальном парке, все, что удалось найти, он прожить не может, о том, что корочки участника боевых действий у него тоже нет, потому что пошел воевать добровольцем, но ничего страшного, он благодарит Бога за то, что остался жив и не ранен, так только, пустяки, легкая контузия. Сейчас во Львове, ищет работу. Уже есть кое-что на примете, прошел собеседование, ждет.
Я тоже рассказываю Васылю о своей прошлой жизни. По Донецку маршируют колонны грязных солдат, едут танки и военные грузовики. Возле моего дома залегли снайперы. Шоссе перегорожено заваленной набок белой фурой. Подрагивают оконные стекла от взрывов со стороны аэропорта.
Уезжали с папой на последнем "угольке", вокзал тогда уже обстреливали, прямо перед главным зданием огромная воронка и много мелких осколочных выщерблин на стенах и деревьях. В здании вокзала, на перронах и железнодорожных мостах толпы солдат, но смотреть на них категорически нельзя — чеченцы сразу вскидывают оружие. Поезд задерживают, долго стоим просто так, потом в вагон запрыгивают двое (их видно в мутное грязное стекло). Шагов не слышно, на полу лежат ковры, но ритмично бряцают при каждом движении автоматы. Мы быстро затолкали наши паспорта за спинку сиденья — вдруг будут отбирать? На столике передо мной блокнот, я хотел делать какие-то заметки о нашей дороге, и теперь навожу в нем ручкой синюю и жирную вертикаль молитвы. Папины белые руки сцеплены в колодец прямо перед моими глазами.
Они медленно прошли мимо, внимательно оглядывая каждого пассажира в нашей плацкарте, дальше… дальше, через весь вагон, к выходу с другой стороны, и поезд, наконец, тронулся.
***
В Лондоне, в редакции газеты Times, получили с курьерским экспрессом свежую статью Уильяма Рассела, своего специального корреспондента в крымском театре военных действий. Рассел в восторженных красках описывал 93-й шотландский пехотный полк под командой генерала Кэмпбелла. Он писал о стойкости и хладнокровии горцев, о том, с каким блеском они отразили кавалерийский удар неприятеля. It was the thin red line, описал Рассел героев, тонкая красная линия, ощетинившаяся сталью. Красная — цвета шотландских мундиров. Тонкая — как губы Васыля. Он плотно сжал их, чтобы не дрожали. Ему очень хотелось плакать. Позавчера Васыль занял у меня деньги, он видел, что в кошельке почти ничего не осталось, обещал вернуть сегодня, и мы оба знали, что он не вернет.
Губы его были такими же тонкими, как оборонительная линия шотландских пехотинцев, но красными они не были. Они были выцветшего пыльно-оранжевого цвета, в такой выкрашены кирпичные ограды старых киевских кладбищ.
***
Мне нужно идти по широкой асфальтированной дороге, разламывающей кладбище на две рваные половины, чтобы попасть в свою хижину. Этот двухэтажный скосившийся и просевший дом стоит прямо за крайними могилами, рядом с ритуальным магазином и колумбарием. Он мертвый. На километры вокруг тишина и пивные жестянки, влажные зеленые поля, горькие холмы.
Зимой, в декабре, мне было очень больно, и я не мог встать с кровати много дней. Мама была рядом, но материнская любовь часто воспринимается слишком органично. Без этой любви не выжить, но в ней нет того чудесного, неожиданного, сверкающего, того, что способно воскресить. В этот раз мама не могла мне помочь. Сил хватало только на то, чтобы стучать по клавишам, заводить вымученные, вялые переписки в социальных сетях, иногда что-нибудь есть и спать, спать очень много, пытаясь свести сознательную жизнь к минимуму.
У меня были какие-то туманные мысли о поездке за границу, в Польшу, я цеплялся за них отчаянно, нужно сменить обстановку и выучить язык, нужно что-то делать, нужно, наконец, просто встать. В Польше живет мой близкий друг, поэт и филолог, я попросил его выслать несколько хороших учебников, язык, литература, история. Оповещение о посылке пришло неожиданно в конце декабря.
Любопытство подстегнуло, оно бывает сильнее любых страстей и немощей. Я встал и вышел из дома. Трудно представить себе что-нибудь более угнетающее, безрадостное, чем главная кладбищенская улица в малоснежном и зябком декабре. Скользко, голо, серо. И холодно. Идти до метро далеко, под гору, ботинки скользят по наледи. Людей почти нет, только ободранные, промерзшие собаки виляют по обочинам.
На почте мне выдают огромную, обмотанную крест-накрест и по периметру скотчем картонную коробку. Возвращаться тяжело, в зимней куртке и с посылкой я похож на хрестоматийную рыночную торговку из девятнадцатого века, ботинки снова скользят на покатой дороге, обычно здесь проносят гробы, венки и широкие острые лопаты, а я несу коробку с книгами.
Дома оказывается, что книг там нет. Яблоки, консервы, рождественские открытки, теплые вещи. Неделю назад в древнем и прекрасном Кракове изящные женские пальцы указывали на нужную полку, а длинные мужские пальцы снимали с этой полки пачку шоколадных конфет или шерстяные носки, да какая разница, что это было, в подушечке каждого такого пальца было тепло. Там был еще маленький англо-русский словарь, наверное, мой друг, поэт и филолог, второпях положил в посылку не ту книгу. Я улыбнулся, открыл словарь на середине — английские слова были изящные и стройные, а русские — большие и ленивые. Они стояли сплошными рядами друг напротив друга.
***
Англичане презрительно относились к своим турецким союзникам. Сегодня утром, когда сражение началось, турки сдали почти без боя оборонительные редуты, сдали все пушки, и сейчас русские на той стороне долины грузили их на подводы для отправки в тыл. Лорд Реглан, командующий союзным экспедиционным корпусом в Крыму, был в бешенстве. Он отдал приказ легкой кавалерийской бригаде, элитному отряду, состоящему сплошь из молодых аристократов, атаковать русских и отбить орудия. Чистое безумие, долина простреливалась с двух сторон, армия противника стояла в боевом порядке.
Лорд Лукан, командир легкой кавалерийской бригады, сказал, что выбора нет, нужно повиноваться приказу, и тогда лорд Кардиган закричал: "В атаку!" — и первым бросился вперед. Все очень просто, вперед и только вперед, через страх, смерть, боль и отчаяние.
Атака легкой кавалерии была полной неожиданностью для русских. Британцы промчались под перекрестным огнем, опрокинули Уральский казачий полк, ворвались на артиллерийские батареи, разметали пехотинцев и канониров.
Они прорубились назад сквозь ряды русской пехоты, но в долине их, потерявших строй, обессиленных, рассеявшихся, смел фланговый пушечный огонь. Они бежали, бросив своих мертвых лошадей, бежали по осенней неровной долине, и было так, словно рука сильно дернула за край скатерти, красные яблоки из пиалы рассыпались, и одно закатилось под мой стул.
Я поднял его с пола, яблоко-кавалериста, живого, нераненного, прокопченного дымом, — и протянул Васылю. Я сказал ему:
— З"їжте, пане Василь, за моє здоров"я…
16–17 сентября, Львов